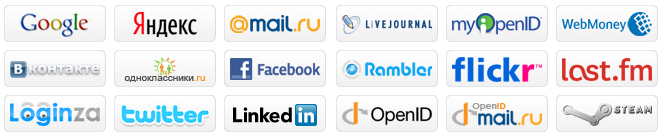Әдеби оқу. оқушылар үшін 2-4 сыныптар ( сыныптан тыс оқуға арналған мәтіндер)
Әдеби оқу.
оқушылар үшін 2-4 сыныптар
( сыныптан тыс оқуға арналған мәтіндер)
Содержание.
1. Вступление 6
Тема раздела: Родные просторы
3. С.Бабенко. Тюе – Тас. 5
4. Б. Сокпакбаев. Меня зовут Кожа. 7
5. С. Бегалин. Ёж Есена 12
6. А. Кунанбаев. Лето. 13
7. А.С.Пушкин. Осень. 14
8. Ф. Тютчев. Есть в осени первоначальной… 14
9. Вн.ч. Г.Гейне Как вспомню к ночи край родной, 16
10. Вн.ч. М. Алимбаев. Юрта. 17
Тема раздела: Мои друзья
11. Г. Куликов. Как я влиял на Севку. 18
12. С. Голицын. В поход! В поход! В поход! 24
13. Г. Троепольский. Прощание с другом. 27
14. Н. А.Некрасов. Славная осень! 39
15. А. Н. Майков. Осень. 43
16. Вн.ч. В. Гюго. Козетта. 45
Тема раздела: Фольклорные мотивы
17. Илья Муромец и Соловей – Разбойник. 52
18. Бой Ер-Таргына с Домбаулом. 55
19. Геракл освобождает Прометея. 58
20. А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь 60
21. М. Бородицкая. Колдунье не колдуется. 83
22. Б. Заходер. Моя Вообразилия 84
Тема раздела: Мы и природа
23. Ю. Бондарев. Поздним вечером. 87
24. В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович. 92
25. Ю. Мориц. Настоящий секрет. 97
26. А. Башлачев. Рождественская. 98
27. Ф. И. Тютчев. Чародейкою зимою… 99
28. О. Высотская. Пришла зима с морозами… 99
29. К. Ибряев. Приглашаю в лес на елку. 100
30. Вн.ч. Г. Гейне. В белый сад выходишь утром… 101
31. Вн.ч. Н. А. Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы. 101
Тема раздела: Хочу все знать
32. В. Катаев. Цветик-семицветик. 105
33. В. Бианки. По следам. 110
34. П. Бажов. Малахитовая шкатулка. 114
35. М. Алимбаев. Метель. 131
36. А. Асылбеков. Зима. 131
37. З. Александрова. Салют весне. 131
38. Вн.ч. А.Платонов. Сухой хлеб 132
39. Вн.ч. А. Барто. Серёжа учит уроки 136
40. Вн.ч. Ю. Сотник. Как меня спасали. 138
Тема раздела: Золотая душа
41. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка. 143
42. Сердце матери. (по Д.Досжанову.) 150
43. Ю.Яковлев. Багульник. 155
44. А. Фет. Я пришел к тебе с приветом… 161
45. А. Плещеев. Весна. 162
46. Ф. И. Тютчев. Весенняя гроза. 162
47. Ф. И Тютчев. Весна. 163
48. А. Толстой. Вот уж снег последний в поле тает… 164
49. Вн.ч. А. Шынбатыров. Урок чуткости. 165
50. Вн.ч. С. Бегалин. Сеид. 168
Тема раздела: Мир приключений и фантастики
51. Е. Л.
Шварц . Два брата. 173
52. О. Уайльд. Мальчик-звезда. 184
53. К. Булычёв. Джинн в коробке. 197
54. Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. 202
55. В. Берестов. Праздник мам. 211
56. Р.Гамзатов. Мама. 212
57. М. Исаковский. Колыбельная. 212
58. Вн.ч. К. Булычев. Консилиум. 213
59. Вн.ч. В.Одоевский. Городок в табакерке. 217
Тема раздела: Наша планета Земля
60. М. Ауэзов. Сирота. 222
61. О. Сулейменов. Яблоки. 227
62. Н. Сладков. Разноцветная земля. 228
63. А. Блок. Полный месяц встал над лугом… 229
64. С. Есенин. С добрым утром! 230
65. И. Бунин. Детство. 230
66. Вн.ч. К. Паустовский. Дремучий медведь. 230
67. Вн.ч. С. Сейфуллин. Домбра. 236
68. Вн.ч. С. Муканов. Юный табунщик. 237
Вступление
Формирование представления о человеке и окружающем мире происходит посредством чтения художественных произведений русской и мировой литературы. В этой брошюре ребята познакомятся с произведениями казахской детской литературы, мирового фольклора и мировой детской литературы.
Тема раздела: Родные просторы
С.Бабенко. Тюе – Тас.
1
Как – то в детстве отец взял меня с собой на сенокос. На всю жизнь я запомнил этот светлый майский день.
Степь отливала лазурью. То цвели васильки вперемежку с незабудками. Пламенели от края до края маки.
Из балки доносился «бой» перепела. Четкий, требовательный, ровный.
Пахнет скошенным сеном, цветами, чабрецом. Отец водит косой широко, ровно. Я иду вслед за отцом, любуясь его работой.
Весь день отец косил густую податливую траву, а я ходил вслед за ним, подносил ему воду в старом закопченном чайнике, смотрел, как он жадно пил её крупными глотками.
Вечером отец растеплил костер, и мы долго пили с ним чай, заваренный им какой –то травой такого аромата и вкуса, какого я больше никогда не пил. Спать мы с отцом легли под копной пахучего сена. После знойного дня на землю спустилась вечерняя прохлада. Отец долго рассказывал мне сказки про Конька – горбунка, хитрую лису и ворону, про звезды, которые золотой россыпью светились на небе.
Прямо над нами все выше и выше поднималась луна. Вокруг было тихо и безмятежно. От земли шел теплый запах, от него чуточку кружилась голова. Птицы умолкли, лишь время от времени перепел просил пить. Тишина становилась все гуще и таинственнее. Только сверчки не унимались да разноцветные беззвучно кружились над нами.
Придвинувшись к отцу, я уткнулся ему под мышку и сразу заснул. Таким беспробудным сном спят люди только на сенокосе.
Пройдут года, но эта звездная ночь, и утро, и весенняя степь останутся в памяти, как первое прикосновение к таинственному, чарующему миру природы.
Наша маленькая деревенька Тюе- Тас (Верблюжий камень)затерялась в безбрежной степи на берегу тихой речки Кутурган. Бывало, откроешь дверь и сразу же шагнешь прямо в степь. Весной она покрывалась веселым изумрудно- зеленым полушалком с пламенно- радостным оттенком от множества полевых цветов. Летом, в жаркие дни, пшеничная нива подступала прямо к калитке. Казалось, протяни руку, и можно, не выходя со двора, потрогать пальцами тугие колосья.
Мы, деревенские мальчишки, не видевшие никогда леса, считали, что лучше нашей степи вряд ли что можно сыскать на всей земле. Она была для нас родным домом.
Мать, большая любительница природы, под любым предлогом старалась увести нас в степь.
- Пойдемте, погуляем в поле, - ласково говорила она.
И мы с большой радостью, наперегонки, сломя голову, неслись по степным просторам.
Окресности деревни с непонятными мне названиями Амансай, Кызылсай, Тюе- тас, Боролдай рисовались в моем воображении сказочными, полными тайн.
Тюе- Тас… для кого другого это слово мало значит. А для меня – это и бескрайняя степь, и глубокие балки, пересеченные звонкими оврагами, и чистое голубое небо, и веселая песнь жаворонка, и кипевшая когда – то рыбой степная речка Кутурган, и полыхающая тюльпанами в апреле балка Кызылсай, и хорошие люди, которые меня окружали. Словом, Тюе –Тас – детство и юность моя.
2
Я редко когда надолго расставался со своей родиной. Не помню, пожалуй, ни одного года, чтобы не побывал у себя в Тюе – тасе. Сейчас у меня нет никого из родных в этой деревеньке. Но все равно каждую весну еду сюда, чтобы вспомнить свое босоногое детство, побродить по окрестным полям, извилистому берегу реки Кутурган, принести на могилу моих деда и бабки степные цветы, которые они так любили. Теперь вы, наверное, не осудите, увидев мою обнаженную голову, когда я проезжаю через Тюе – Тас. Это я молча здороваюсь с моим детством.
Лишь один раз, в войну, долго не был на родине. Я входил в Злату Прагу, видел сказочный Будапешт на Дунае, больше года пробыл на родине Штрауса – в Вене, почти неделю бродил по серому суровому Берлину. И чем больше видел, тем сильнее тянуло меня в Тюе – Тас. Для меня он был и есть частица нашей великой Родины.
Однажды в венском лесу, обозревая с крутого берега Дуная окрестности, я вдруг очень ясно увидел свой Кутурган, гору Тюе – Тас, луга, поросшие камышом берега реки. И мне показалось, что моя речушка красивее сказочного Дуная. Мне кажется, я впервые увидел её такой прелестной, что даже защемило на душе.
И вот после шести с половиной лет я снова на родине. Промелькнула за окном станция Арысь, остался позади Шымкент, машина мчит по извилистой пыльной дороге. А вот и он, Тюе – Тас. Сильно- сильно забилось сердце. Я снова в родимой деревеньке, затерявшееся в степях Казахстана, у подножия огромной горы, похожей на верблюда. Здесь короткой утренней зорькой пролетело мое детство.
Здравствуй, Родина!.....
Б. Сокпакбаев. Меня зовут Кожа.
Утром, едва я успел попить чаю, к нашему дому верхом на лошади подъехал Султан.
- Чёрный Коже, ты дома? - послышался его голос.
- Дома-дома.
- Ну как, готов?
- Готов.
- Выноси седло.
Я взял седло и вышел наружу. Султан с важным видом восседал на поджаром* саврасом* трёхлетке. К моему удивлению,на поводу у него и в помине не было никакой, даже самой дохлой клячи.
- А где же для меня лошадь? - спросил я разочарованно.
- А это что, по-твоему? - удивлённо ответил Султан, хлопнув рукой по крупу коня. - Клади седло.
- Куда?
- Сюда, позади меня. Ты плохо знаешь этого жеребца. Он, будь здоров, может довезти нас не только до жайляу, но даже и до самого Алматы.
- Мы что, на одного коня взвалим два седла? - поразился я.
- Чему ты удивляешься? Всё будет отлично, вот увидишь!
Мне до этого дня, признаться, не приходилось встречать казахов, седлавших коней двумя сёдлами. Идея Султана показалась мне и в самом деле заманчивой и интересной. Я устроил седло позади него, подтянул подпруги и взобрался верхом. И в эту минуту вышла моя бабушка.
- О господи, что же это такое? - ахнула она и, прикрыв рукой глаза от солнца, с удивлением уставилась на нас. - Ах, проказники, ах, хитрец, ведь это ты придумал? - сказала она Султану.
Я чувствовал себя превосходно. Так действительно было гораздо удобнее, чем без седла. Ноги не болтались, потому что у каждого из нас были свои стремена.
Протрусив по двум-трём улицам, мы подъехали к магазину и остановились около него. Перекинув ногу через гриву коня, Султан спрыгнул на землю и, передавая мне поводья, сказал:
- На, держи. У тебя деньги есть?
- А что?
- Сколько?
- Пять рублей. А что?
- Всего-то? Ну ладно, давай сюда.
Как я мог отказать Султану, сидя на его коне? Я не спеша расстегнул пуговицу на нагрудном кармане и нехотя полез в него рукой.
- Эй, чего ты там копаешься?
Как же мне было не копаться, если на то была причина?
- Подожди, я что-то найти не могу.
- Может быть, они у тебя в другом кармане?
- Нет, были в этом.
Я медлил. В кармане-то у меня лежали две хрустящие бумажки, но я не мог определить на ощупь, какая из них пятирублёвка. В конце концов я решился и, надеясь на удачу, вытащил одну из них. О ужас! Едва я заметил высунувшийся из кармана бумажный краешек, как сердце моё дрогнуло, а внутри заныло. То, что я вытащил, оказалось десяткой.
- Эй, так это же червонец! - обрадовался Султан. - Ох и хитёр же ты, Чёрный Коже! Ну не можешь никак, чтобы не схитрить! Ладно, червонец так червонец, давай его сюда!
- Я думал, что это пять рублей, а оказалось - десять, - оправдывался я, пытаясь скрыть своё смущение.
Едва Султан, прихватив мою десятирублёвку, скрылся в магазине, как я снова сунул руку в карман, где оставалась вторая бумажка и вытащил её. Это были пять рублей. Те самые, которые меня так подвели и опозорили. Я так разозлился, что хотел было назло всему разорвать их на части и вышвырнуть вон. Глядя на и без того истерзанную, измятую бумажку, я пожалел её и снова спрятал в карман.
Султан вскоре вышел из магазина, что-то жуя на ходу. Карманы его брюк-галифе* были чем-то набиты.
- Что ты купил? - спросил я его.
- Кое-чего на довожку, - ответил Султан, еле ворочая языком, желая, видимо, сказать «на дорожку».
Он взял из моих рук поводья и снова вскочил на коня.
Мы выехали из аула, оставив позади себя последний из домов. Султан вытащил из кармана брюк два пряника и протянул один из них мне. Дружно похрустывая, мы неторопливо двигались по степной дороге, и копыта саврасого гулко стучали по каменистой земле.
Через некоторое время Султан обернулся и спросил меня:
- Ты куришь?
- Нет, - ответил я.
Продолжая сидеть вполоборота, Султан натянул поводья, вынул из кармана пачку сигарет, распечатал её и протянул мне:
- На, учись.
- Да нет, кури сам, - отказался я.
- Как это ты до сих пор не научился курить? - принялся стыдить меня Султан. - А ну, давай учись, пора уже. На, бери!
Я послушно вытащил из пачки сигарету, сунул её в рот. Султан зажёг спичку. Прикурив, я усердно задымил, делая одну затяжку за другой. Рот мой наполнился едким вонючим дымом.
- Эх ты, неграмотный, - произнёс укоризненно Султан, заметив, как я курю. - Разве так курят? Какие хорошие сигареты попусту переводишь! Тяни внутрь! Вот так, видишь? Набери полный рот дыма, а потом проглоти его.
Какими же глупыми бывают порой дети! Ведь знают о некоторых вещах, что это очень вредно, а тянутся к ним, словно слепые щенки. Вот и мне стало вдруг любопытно: что, интересно, будет, если проглочу? Дай-ка, попробую!
Если с вами случалось такое несчастье, то наверняка вы поймёте моё состояние. Едва я наполнил рот дымом и проглотил его, как в ту же секунду страшно ядовитый газ пронизал меня, заполнил всё внутри отвратительной мутью. Дыхание перехватило, и я громко закашлялся. Из глаз брызнули слёзы. Вдруг всё перед моими глазами поплыло и, казалось, вот-вот опрокинется.
- Ойбай, подожди, - закричал я Султану и, перевалившись через коня, сполз на землю. Меня ужасно тошнило, но я не мог вырвать и лишь беспомощно скрючился на краю дороги.
- Бедняжка Чёрный Коже! Видно, помрёшь ты на три дня раньше своего срока! - посмеивался надо мной подлый Султан, вместо того чтобы посочувствовать мне. - Не мог, что ли, добраться до жайляу и уж там помирать, коль так приспичило? А здесь теперь возни с тобой будет невпроворот!
С той поры и по сей день я не только не курю, но бегу прочь, едва учую мерзкий ядовитый запах табака.
2
С того дня, как мы с Султаном оказались на жайляу, прошло, как ни странно, около месяца. Подумать только, целый месяц! А пролетел он как один день. Потому что провели мы его очень весело и интересно. А всё благодаря Султекену. За всё это время я не был без лошади ни единого дня. Каких только иноходцев он не находил для меня! Седлай, говорит, этого и поехали! И я следую за ним. Я не спрашиваю о том, куда мы едем. Да и зачем? Ведь благодаря Султану я могу вдосталь покататься на лошадях и весело провести своё время.
Однажды на жайляу был устроен большой той, посвященный Дню чабана. Кого может оставить равнодушным такое событие? Не остались безучастными и мы с Султаном. Едва начались первые приготовления к празднику, как мы потеряли покой.
Мы с нетерпением ожидали желанного дня и даже готовили себе коней, собираясь принять участие в кокпаре*.
Утром того дня, когда должен был начаться праздник, моя мама ушла на дойку, а я, оперевшись на локоть, лежал в постели и читал «Робинзона Крузо».
Неожиданно снаружи послышался цокот копыт, а вслед за этим - громкий голос Султана.
- Чёрный Коже, ты дома?
- Дома.
Султан гулко спрыгнул на землю и вошёл внутрь.
- Ты что, дурень, ещё в постели? - воскликнул он, кинулся ко мне и выхватил из моих рук книгу. - Вечно в твоих руках торчат какие-то книжки! Ну-ка, вставай живо и одевайся! Пойдём на той.
Описывать праздник, думаю, тоже будет излишним. Потому что все вы знаете, как он обычно проходит. Нынче чего-чего, а этого удовольствия хватает. Что ни праздник, то той. Вот, к примеру, отдают невесту замуж - той, родится ребёнок - той, перевыполнили план - той, приехала какая-нибудь знаменитость из-за границы - той, День строителя, День физкультурника, День шахтёра и ещё многие другие не названные праздники, и всегда — той. Слава богу, в тоях у нас нет недостатка.
Итак, мы пришли на той. Гостей собралось на празднике видимо-невидимо. Здесь были особо почётные гости из Алматы, машины которых выстроились в длинный ряд. Всякие там «Москвичи» и трёхколёсные тарахтелки я за машины не считаю и о них не говорю. Кроме того, прибыли почти все чабаны из соседних двух районов, и праздник, казалось, был в самом разгаре.
Мы подошли к небольшой кучке столпившихся людей и увидели, что в центре её шли состязания борцов. После очередной схватки раздался голос одного из ведущих тоя:
- Теперь будут выступать дети. Начинаем детские соревнования по борьбе.
Наблюдая за взрослыми борцами, я чувствовал, как меня охватывал нестерпимый спортивный зуд. Едва раздался призыв, об- ращённый к детям, я тут же выскочил на середину.
- Я буду бороться! - сказал я ведущему.
- Что ж, иди сюда. Ты, я вижу, парень - огонь! - похвалил он меня и одобрительно похлопал по спине.
Борьба проводилась между представителями двух районов. Поэтому ведущий праздника обратился теперь с приглашением к противоположной стороне:
- Уйгурский район, выдвигайте своего борца!
В рядах Уйгурского района произошло небольшое оживление, и оттуда вышел горбоносый и очень смуглый, даже чернее меня, мальчишка. Едва он отделился от своих болельщиков, как за моей спиной раздались возмущённые голоса:
- Эй, да разве это ребёнок, это же настоящий жигит!
- Что же вы выпускаете такого верзилу против этого малыша?
- Давайте подходящего соперника!
- Это несправедливо!
Однако, раскрасневшийся и распалённый* спортивным азартом, ведущий и не думал прислушиваться к этому шуму.
- Сила на силу! Начинайте! - крикнул он и столкнул нас с носатым.
Я знал, что у меня хорошо получались подсечки и поэтому с первых же минут пытался применить этот излюбленный приём. К моей великой досаде, длинные ноги соперника были раскинуты далеко в стороны, и как я ни тянулся, достать до них не мог.
Догадавшись о моих намерениях, носатый отставил ноги ещё дальше и всем своим телом навалился на меня. Я толкал его то с одной, то с другой стороны, но он даже не двигался с места. Похоже было, что мой соперник рассчитывал только на силу своих рук и выжидал удобный момент, чтобы поднять меня и бросить на спину. Пару раз ему удавались броски, но я каждый раз приземлялся на растопыренные, как у лягушки, ноги.
Неожиданно в голову мне пришёл один хитроумный приём. Я незаметно приблизился к небольшой впадине и, упав на бок, едва уловимым для глаз движением перекинул носатого через голову.
Тот, по-видимому, никак не ожидал этого и так растерялся, что не успел даже собраться и, перелетев через меня, распластался на земле. Я быстро вскочил на ноги и, не дав противнику опомниться, уселся на него верхом. Толпа словно взорвалась. Мои болельщики радостно зашумели, закричали, поздравляя меня с победой.
- Молодец!
- Вот жигит так жигит!
- Долгих лет тебе жизни!
Подошёл ведущий, пожал мне руку и вручил приз.
Я чувствовал, как рот мой растянулся до ушей и радость наполнила душу. Счастливый, направился к прежнему месту. Громкий голос ведущего за моей спиной зазывал новых борцов. Вдруг сбоку от меня из гущи* людей выбежал какой-то мужчина в светлом войлочном колпаке и устремился в мою сторону. Я не придал этому особого значения, продолжая идти дальше, как вдруг он догнал меня, схватил за руку выше локтя и закричал:
- А-а, вот ты где, мошенник! Попался!
Ничего не объяснив, он поволок меня куда-то за собой, словно куст перекати-поля. Мне показалось, что я уже видел где-то это лицо, но припомнить никак не мог.
- Что... Что вам от меня нужно? - испуганно лепетал я. Мужчина выволок меня из толпы и остановился. От злобы,
кипевшей в нём, острая его бородка мелко тряслась.
Незнакомец крепко, чуть не задушив, схватил меня за грудки и сильно тряхнул.
- Свернуть бы тебе сейчас шею! - процедил он сквозь зубы. - Мало того, что обманули моего сына, выпили и расплескали кумыс, так ещё и каракуль стащили!
Я вздрогнул, словно мне на спину прыгнула лягушка. Теперь я узнал человека с гневно сверкающими глазами. Это был тот самый чабан, который встретился нам на пути к жайляу и попросил спички.
- Аксакал, я не брал ваш каракуль! - протянул я жалобно.
- А кто же взял, по-твоему?
Я хотел как можно скорее освободиться от позорного подозрения и честно признался:
- Его взял мальчик, который был рядом со мной.
- Где он? Чей сын? - грозно допытывался бородатый старик.
- Его зовут Султан... Он там... там стоит.
Я повёл старика к тому месту, где недавно стоял вместе с Султаном. Но того и след простыл.
- Ну?! Где же он?
- Только что был здесь...
Привлечённые шумом, нас стали окружать любопытные.
- Что случилось?
- Где?
- Что натворил этот мальчишка? - расспрашивали они друг друга, забыв о борьбе.
Правду говорят, что стыд сильнее смерти. Я не знал, что делать, и готов был от стыда провалиться сквозь землю.
- Султан! Эй, Султан! - озираясь кругом, беспомощно звал я.
- Вон он, Султан! Садится на коня и собирается дать дёру,* - раздался вдруг чей-то голос.
Я резко обернулся и, глянув в указанную сторону, увидел Султана, уже вскочившего на коня.
- Султан! - отчаянно крикнул я, но он даже не посмотрел на меня и, хлестнув коня камчой, помчался вниз по горному склону.
- Ускакал! Видите, ускакал! - сказал я старику.
- Эх!.. - только и вырвалось у того в бессильной злобе.
Наверное, вы и сами понимаете, в каком я был состоянии после описанного мною происшествия. На том тое была и моя мать. К счастью, она не видела, какой позор пришлось пережить её единственному сыну на глазах огромной толпы. В это время мама находилась в другом месте, там, где шли выступления артистов. Я был подавлен как никогда в жизни. Той остался где-то в стороне, а я, крадучись, словно воришка, добрался до своего коня и тронулся вслед за Султаном.
Я был готов прибить Султана на месте, попадись он мне сейчас на глаза. Как было не злиться на эту его подлую выходку! Сотворить своими руками зло и не уметь ответить за это - что может быть бесчестнее для мужчины? Не знал я, что у Султана была такая трусливая и мелкая душонка.
«С хорошим поведёшься - мечты своей достигнешь. С плохим же поведёшься - беды не оберёшься», - говорят казахи и, как видите, не зря.
С. Бегалин . Ёж Есена
Однажды Есен поймал на берегу реки ежа. Он принёс его домой, положил на пол посреди кухни, а сам пошёл наливать в блюдечко молоко. Пока он разыскивал блюдечко и доставал крынку, ёж выставил свою остренькую любопытную мордочку и осторожно принюхался.
- Что, познакомимся? - весело спросил Есен. "
Ёж испуганно пискнул и свернулся в клубочек, ощетинив серые иглы. Есен поставил на пол блюдечко и предложил:
- Пей, глупышка.
Ёж не шелохнулся.
Но постепенно зверёк привык к мальчику. Смешно дёргая языком, он, не стесняясь, лакал молоко, которое ему приносил Есен. Когда мальчику случалось долго готовить уроки, ёж беспокойно вертелся у него под ногами, тыкался носом в ботинки, словно просил: «Скучно, давай поиграем!».
- Ах, озорник, - говорила тогда бабушка Алтынай. - Всё бы тебе играть да играть. А ведь ты уже совсем
большой. Иди мышей полови лучше или змей...
Есена удивляли слова бабушки. Как может ёжик поймать мышь или справиться со змеёй? Он даже посоветовался со своим другом - Каби. Каби учился с ним в одном классе и был отличником. Каби сказал, что бабушка права, он сам читал про ежей удивительные истории. Тогда Есен стал следить за ежом. Но ему ни разу не удалось увидеть, чтобы тот поймал мышь или змею... Жука или червяка - это он видел, но змею... Есен решил, что бабушка всё же по старости что-то перепутала, а Каби просто наврал об удивительных историях с ежами.
Наступило лето. На яблонях появилась завязь. Вишнёвые деревья стояли увешанные аппетитными тёмно-красными ягодами. Есен и Каби перебрались жить из дома в беседку. Беседка была снизу доверху увита зелёным вьюном. У стенок поставили скрипучие койки, посередине - стол, на котором круглые сутки валялись теперь учебники и тетради: в четвёртом классе начались экзамены.
В беседку провели электричество; к арифметике готовились до позднего вечера. Перед сном мальчики сбегали на речку, чтобы немного освежиться.
- Признайся, ты нарочно сочинил эту историю с ежами, - сказал Есен, когда они возвращались в беседку.
- Что мне за интерес? - обиделся Каби.
Есен недоверчиво усмехнулся, махнул рукой:
- Ладно. Не забыть бы налить в консервную банку воды для ежа.
Утром первым проснулся Каби. Он открыл один глаз. Розовое
солнце просвечивало сквозь вьюны. Пахло свежими листьями и цветами. Каби не любил нежиться. Он отбросил одеяло и сел. Подумал: «Разбудить Есена?»
И вдруг Каби испуганно вытаращил глаза. Упираясь хвостом о землю по ножке койки, извиваясь, ползла змея. Её плоская головка с нервным и тонким, как игла, язычком уже почти касалась края одеяла, под которым лежал Есен.
- Есен! - крикнул Каби и схватил со стола книжку, чтобы швырнуть в змею.
Но его кто-то опередил. Змея вдруг сорвалась с койки и отчаянно завертелась на утрамбованной, присыпанной жёлтым песком земле. Каби разглядел ежа. Полусвернувшись, он сжимал в зубах змеиный хвост.
- Есен!
Есен вскочил на колени.
- Гляди!
Затаив дыхание, с горящими глазами мальчики наблюдали за борьбой. Стараясь вырваться, змея билась об иглы ежа. Её плоская злая головка истекала кровью.
- Бабушка, скорей! Ёж змею поймал! - восторженно закричал Есен. - Скорей!
Когда в дверях беседки показалась испуганная бабушка, змея, исколотая иглами своего маленького противника, уже не двигалась.
- А я думал, - захлёбываясь от восторга, говорил Есен, - что ты напутала всё... про ежей.
- Радовался бы лучше, что змея не укусила, - строго ответила бабушка.
Она сделала сердитое лицо, но не утерпела и заулыбалась:
- Вот и отблагодарил тебя ёж за заботу о нём. Отблагодарил, - повторила она ласково.
А. Кунанбаев
Летом, когда тенисты деревья,
И буйно цветут цветы на лугах,
И на широких речных берегах
Шумно раскидываются кочевья,
Так высока в степи трава,
Что спины коней видны едва.
Вволю насытившись, кобылицы
Не в силах, кажется, пошевелиться:
Тихо стоят они у реки,
Хвостами мух, отгоняя лениво.
Лишь весело скачут, резвы на диво,
Жеребята и стригунки.
Гусей и уток крикливых стаи
То опускаются, то взлетают…
Смехом и криками оглашая
Степной простор далеко вокруг,
Женщины юрты ставят ловко.
Видны уверенность и сноровка
В плавных движениях белых рук.
Бай, объехав свои отары,
Довольный скатом и самим собой,
На статном коне трусит домой
К закипающему самовару.
Хозяйка льет из сабы кумыс.
Уже домочадцы в кружок сошлись,
Табунщики на лошадях лихих,
В чапанах, поясом стянутым туго,
К аулу спешат, обгоняя друг друга, -
Усталыми кажется лица их.
А группа юношей с ловчей птицей
На уток охотится и веселится,
Если выпущенный из рук
Стремительно беркут ввысь взовьется
И крупного селезня схватит вдруг…
А.С.Пушкин. Осень…
Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод.
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод…
Ф. Тютчев
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё - простор везде,-
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь -
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...
Внеклассное чтение.
Г.Гейне
Как вспомню к ночи край родной,
Покоя нет душе больной;
И сном забыться нету мочи,
И горько-горько плачут очи.
Проходят годы чередой…
С тех пор, как матери родной
Я не видал, прошло их много!
И всё растёт во мне тревога…
И грусть растёт день ото дня.
Околдовала мать меня:
Всё б думал о старушке милой, —
Господь храни её и милуй!
Как любо ей её дитя!
Пришлёт письмо — и вижу я:
Рука дрожала, как писала,
А сердце ныло и страдало.
Забыть родную силы нет!
Прошло двенадцать долгих лет —
Двенадцать лет уж миновало,
Как мать меня не обнимала.
Крепка родная сторона,
Вовек не сломится она;
И будут в ней, как в оны годы,
Шуметь леса, катиться воды.
По ней не стал бы тосковать,
Но там живёт старушка мать;
Меня не родина тревожит,
А то, что мать скончаться может.
Как из родной ушёл земли,
В могилу многие легли,
Кого любил… Считать их стану —
И бережу за раной рану.
Когда начну усопшим счёт,
Ко мне на грудь, как тяжкий гнёт,
За трупом бледный труп ложиться…
Болит душа, и ум мутится.
Но слава богу! В тьме окна
Зарделся свет. Моя жена
Ясна, как день, глядит мне в очи —
И гонит прочь тревоги ночи.
Внеклассное чтение.
М. Алимбаев. Юрта
«О, мой дом,
Моя юрта,
Ты светла, как дворец…», -
Был великим и мудрым
Твой безвестный творец.
Он создал тебя смело,
Буд-то песню сложил.
Купол неба примером
Для работы служил.
Он хотел,
Чтоб отныне
Мог всегда
Сын степей
Чуять запах полыни,
Слышать топот коней!
Чтобы в юрту светила
Голубая звезда!
Стой!
Когда это было?
Неизвестно когда…
Жеребцом одичалым
Век вставал на дыбы.
Юрта стойко встречала
Все удары судьбы –
В ураган не робела,
Не ломалась в беде
И в огне не горела,
Не тонула в воде.
И, не ведая страха,
Открывалась с утра,
Словно сердце казаха,
Для тепла
И добра!
Как все просто и мудро.
Понял я, наконец:
Мир –
Огромная юрта,
Что светла,
Как дворец!
Тема раздела: Мои друзья
Г. Куликов. Как я влиял на Севку.
После уроков Анна Ивановна объявила:
– Завтра – экскурсия в зоопарк. Сбор к десяти часам возле школы.
Я вспомнил: завтра воскресенье. И обрадовался. Значит, хоть один день не увижу Севку.
Я первым выскочил из класса. Первым попал в раздевалку. Первым выбежал из школы.
Папа и мама были уже дома.
– Нуте-с, начинающий Песталоцци, как дела? – сказал папа.
– Ничего, – ответил я. – Потихоньку.
– Иди мой руки, – сказала мама. – Обед стынет.
По дороге в ванную я завернул в кабинет посмотреть, кто был этот самый Песталоцци и что хотел папа: похвалить меня или обругать. Я достал том энциклопедического словаря на букву «П» и прочитал: «Песталоцци Иоганн Генрих, выдающийся швейцарский педагог...» Я захлопнул словарь и плюхнулся в кресло. Ну конечно, бабушка успела рассказать про Севку!
Я сидел долго. Потом вышел в переднюю. В комнате разговаривали взрослые.
– Все это очень хорошо, прекрасно, – говорила мама. – Но у ребенка и без того большая
нагрузка. И так он целыми днями не видит воздуха, сидит над книжками. А как он выглядит? Худущий, кожа да кости...
– Ничего, ничего, – успокаивал папа. – Это полезно.
– Еще бы, – сказала мама, – прикрепили няньку. Ни о чем самому думать не надо...
– Да не тому полезно, – сказал папа. – То есть, надеюсь, и ему пойдет на пользу. Но сейчас я о Константине. Нельзя все время держать парня в тепличных условиях. И нельзя, чтобы он рос эгоистом, думал только о себе...
– Котик растет эгоистом?!
Я вошел в комнату. Папа и мама замолчали. Они всегда перестают говорить обо мне, когда я вхожу. Говорить при детях о детях непедагогично. Это я уже знаю. Потом папа спросил:
– Как зовут твоего подопечного?
– Севка, – сказал я, – Севка Мымриков.
– Плохо учится?
– Неважно, – вздохнул я.
– Лодырь, что ли?
– Неусидчивый он и, – я посмотрел на бабушку, – у него здоровье неважное...
– Ну-ну, – сказал папа. – Смотри, не осрамись.
– Постараюсь, – сказал я.
– И приглашай к нам. Пусть приходит.
– Ладно, – пообещал я.
Утром я подумал: кто такой Севка, чтобы я из-за него пропускал экскурсию? Мне нравилось в зоопарке. Я любил смотреть на медлительного, степенного слона, ленивого бегемота, веселых попрошаек мишек.
Только чуточку было жалко зверей. Казалось, они никак не могут забыть всякие там свои джунгли и пустыни. И оттого у слона такие печальные глаза, а тигры часто мечутся по клетке и кричат что-то сердито и жалобно на своем тигрином языке. Я быстро оделся, еще быстрее позавтракал и побежал к школе.
Честно говоря, я надеялся, что Севка на экскурсию не придет. Не было еще такого случая, чтобы Севка приходил на экскурсии. И правда, возле школы весь класс был в сборе. Не хватало двоих: меня и Севки. Я пришел. А Севку ждать не стали.
– Мымриков в своем репертуаре, – сказала Любовь Дмитриевна, наша учительница по ботанике. – Пойдемте, ребята.
Я разыскал глазами Иру Зимину. Возле нее стояли Толька Овчинников и Алик Камлеев. Алик ей что-то смешное рассказывал. А Толька поглядывал сверху вниз и улыбался. Ира была девчонка что надо. Разговаривать с ней интереснее, чем с любым мальчишкой. А играть в настольный теннис – не берись. То есть можешь браться, пожалуйста. Только наверняка вылетишь. Хорошо, если не всухую. На школьных вечерах она выходила на сцену и садилась за рояль. И играла не какую-нибудь там «Перепелочку», а настоящую взрослую музыку. Ее всегда вызывали много раз. И она играла все новое и новое. А я удивлялся: и влезает же человеку в голову столько музыки!
Я стал придумывать, как бы тоже вступить в разговор и начал понемножку продвигаться в сторону Зиминой. Вдруг земля вырвалась, у меня из-под ног. Я полетел в сугроб. Вскочил – передо мной Севка. Рот – до ушей и орет во всю глотку:
– Здорово, Горох! Чуть не опоздал. Как приёмчик? Сила! Хочешь, научу?!
Можно было, конечно, обозвать Севку дураком. Полезть на него с кулаками. А что толку?
Я покосился на Иру Зимину. Она была занята разговором, моего полета не видела.
– Ладно, – сказал я Севке, – научи.
Любовь Дмитриевна укоризненно покачала головой.
– Ты даже с товарищем, Мымриков, нормально не можешь поздороваться. Обязательно с грубыми шутками.
Возле входа в зоопарк меня отозвал в сторону Игорь Булавин.
– Учти, Мымриков на твоей ответственности. Тут дикие звери. А ты Севку знаешь!
– Что я, гувернантка?! – возмутился я.
– Ты – пионер, – строго сказал Игорь. – Мы с тобой на эту тему уже беседовали. Если мало, могу побеседовать еще. Завтра. А сегодня выполняй поручение. Я посмотрел на Иру – около нее был теперь один Алик – и подошел к Севке. У Севки на животный мир была своя точка зрения. Всяких мелких безобидных зверушек и птах он презирал. Севке нравились звери свирепые и хищные: львы, тигры, пантеры. С
уважение остановился он перед пеликаном.
– Вот это клювик... Ка-а-ак долбанет – не обрадуешься!
Сперва Севке очень понравился бегемот. А когда бегемот зевнул, открыв огромную розовую пасть, Севка пришел в восторг.
– Гляди! - кричал он мне. – Вот это ротик! Вот это я понимаю! Попадись такому, он и жевать не будет. Захлопнет свой чемодан, только тебя и видели! Любовь Дмитриевна, – спросил он учительницу, – а он крокодила живого может проглотить? Он ими, наверно, питается, да?
– Бегемоты, – сказала Любовь Дмитриевна, – питаются растительной пищей: сочными травами,
корневищами водяных и болотных растений, ветками. Должен бы знать, Мымриков. Мы об этом говорили на уроках.
– Он? Травой?!
Севка с сожалением посмотрел на бегемота.
– Здоровенный, а ест всякую ерунду. С такой пастью я б на его месте крокодилов, кабанов и еще чего там водится, как мух, глотал. Не глядя.
– Не сомневаюсь, Мымриков, – сказала Любовь Дмитриевна и все засмеялись.
Скоро звери, большие и маленькие, надоели Севке. Он стал крутить головой по сторонам и увидел лоток с мороженым. Потом еще покрутил головой и потащил меня к клетке с фламинго, длинношеими голенастыми птицами.
– Гляди: на одной ноге стоит. Спорим на мороженое, я дольше простою. Я знал, Севка был мастер спорить. И не просто так, а обязательно на что-нибудь. Я однажды видел, как Севка спорил. Возле школы стоял малыш с яблоком. Сева подошел к нему и сказал:
– А я, между прочим, могу доплюнуть до второго этажа.
Малыш задрал голову и недоверчиво протянул:
– Врешь...
– Не веришь? Спорим на твое яблоко...
Минуту спустя Севка похрустывал яблоком и назидательно говорил:
– Учти, из двух спорящих один обязательно умный, а другой – нет.
Поэтому я сказал Севке:
– Ладно, и так верю.
– А может, поспорим? – спросил Севка.
– Чего спорить, когда я тебе и так верю. Пошли дальше.
Но сбить Севку было не просто. Он задумчиво потер подбородок и изобразил на физиономии крайнюю степень неуверенности.
– А может, и не простою дольше? Надо попробовать!
Севка проворно, не хуже фламинго, поджал левую ногу.
Птица, которую взялся перестоять Севка, от стояния на одной ноге никакого неудобства не испытывала, а Севка уже через минуту опустил ногу.
– Не могу больше! А ты еще не хотел спорить!
Мне показалось, что Севка хитрил и что он мог бы еще стоять долго, но я промолчал. Мы шли мимо клеток с другими зверями и птицами, а Севка все сокрушался:
– Подумать только, еще б немного – и проиграл. Кто ж знал, что она на одной ноге столько стоять может? Ну, да ладно, попадись мне другая такая птица, еще посмотрим, кто кого!
В окошке служебного помещения я увидел птицу, как две капли воды похожую на ту, с которой Севка только что соревновался. Я хотел отвлечь внимание Севки. Но было поздно.
– Ага! – закричал Севка. – Попалась! – и тут же спохватился: – Конечно, не совсем попалась. Я, конечно, могу потерпеть сокрушительное поражение. А что? Вполне возможно! Но мы сейчас тягаемся. Вот! – Севка протянул мне руку. – Спорим на мороженое, перестою ее на одной ноге. Учти, запросто могу и проиграть. Она, может, с пеленок на одной ноге привыкла стоять, а у меня опыта нет. Но, так и быть, спорим.
– Чего спорить. Я ж тебе сказал: и так верю.
– Ладно, – ставлю два мороженых против одного.
Я покачал головой.
– Три! – предложил Севка.
– Нет, – сказал я.
– Пять.
Когда Севка дошел до ста штук, мне стало смешно.
– Послушай, – сказал я, – мама мне дала денег. Как раз на два мороженых хватит. Давай купим и пойдем дальше, не то мы возле этой птицы целый час торчать будем.
– Ну, уж нет. Спорить – пожалуйста; а так с какой стати ты меня мороженым будешь кормить?
Мне эта канитель надоела и я махнул рукой:
– Делай, как хочешь...
– Итак, – торжественно возгласил Севка, – если выигрываю я, ты мне покупаешь одно мороженое, если выигрываешь ты, я тебе покупаю сто! Так?
– Так, – согласился я. – Не тяни. Начинай свое единоборство, да пойдем дальше. Мне на эту птицу уже смотреть противно.
– Внимание! – прокомандовал себе Севка. – На старт! Марш! – и поджал одну ногу. Я присел рядом на скамейку и стал ждать, когда птице за окном надоест стоять на одной ноге и Севка заработает свое мороженое. Однако время шло, а птица и не думала менять позы.
– Ишь ты, – пробормотал Севка, – стоит и глазом не моргнет. И не шелохнется...
А еще через некоторое время Севка стал потихоньку кряхтеть. И не так, как первый раз, для виду, а по-настоящему. Не знаю, что было бы дальше и чем бы это все кончилось, но тут к нам подошла женщина с совком и метлой в руках.
– Не иначе, на космонавта готовится, – кивнула она в сторону Севки.
– Нет, ответил я, – он просто... ну, для собственного удовольствия. А разве на космонавта так тренируются?
– Всяко тренируются, – сказала женщина. – Тут один шустрый мальчишка даже на голове стоял. Привыкаю, говорит, видеть животный мир вверх ногами. Готовлюсь к состоянию невесомости.
Я еще хотел поговорить насчет удивительной подготовки к космическим полетам, но меня перебил Севка. Он стоял, теперь скособочившись, красный, точно перезрелый помидор и тяжело дышал.
– Скажите, тетенька, – не своим голосом прохрипел Севка, – а вон та птица за окном долго так стоять будет?
– Года два, почитай, стоит, – сказала женщина. – А сколько еще будет, кто ж знает?
– Д-два года на одной н-ноге?!
– Она и десять простоит, – сказала женщина. – Известно, чучело. Как сделают, так и стоит.
– Ч-чучело?!
Женщина ушла, а Севка все глядел в окно, где за стеклом стояло удивительно, ну, просто на редкость хорошо сделанное чучело фламинго, длинношеей, голенастой птицы.
– Теперь, как мне кажется,- сказал я Севке, – ты можешь встать на обе ноги.
Севка мне не успел ответить. К нам подбежала Томка Новожилова и затараторила:
– Разве можно так, мальчики? Вас все ждут. На тебя, Мымриков, я не удивляюсь. А ты, Горохов, мог бы подумать о товарищах. А то бегай по всему зоопарку и разыскивай, думаете, очень интересно?
– Не интересно – не бегай, – мрачно сказал Севка. – Кто тебя просит?
– Любовь Дмитриевна просит. Вот кто просит. А мне вы не нужны вот нисколечко....
По дороге на новую территорию Севка ворчал:
– Безобразие! Раз зоопарк – значит, живые должны быть. А то наставили на каждом шагу чучела, а посетители отдувайся... На всех неподвижных зверей и птиц Севка косился недоверчиво. Около верблюда он остановился. Верблюд был важный и на Севку даже не поглядел. Севка уцепился за решетку, дотянулся до верблюжьей морды и провел пальцем по его большим, мокрым губам. Верблюд медленно задвигал губами.
– Не нравится?
Севка еще раз провел по губам. Верблюд задвигал губами чуточку быстрее. Севке это надоело и он спрыгнул. И тогда верблюд плюнул. В Севку он не попал. Севки уже перед ним не было. Весь заряд верблюжьей слюны попал в толстого дяденьку, который стоял рядом с такой же толстой тетей. Получился страшный скандал. Любовь Дмитриевна покраснела и стала извиняться за Севку. Дяденька сердился и ругался. Тетенька ужасно громко кричала. Можно было подумать, что дяденьку укусила, по меньшей мере, гремучая змея. А ведь в него всего на всего плюнул обыкновенный, довольно облезлый верблюд.
Мы сразу ушли из зоопарка. Всю дорогу Любовь Дмитриевна молчала. И ни разу не посмотрела на Севку.
А Игорь мне сказал:
– Плохо работаешь, Горохов. Плохо выполняешь пионерское поручение. Я тебя специально предупреждал сегодня. И учти: твоя задача не только помочь Мымрикову в учебе. Надо чтобы он человеком стал. Без фокусов. С ним мало уроки вместе готовить. Надо влиять на него в свободное время. А то болтается неизвестно где и с кем и вот результат.
Ночью мне снилась какая-то галиматья: не то звери, не то птицы. А под конец приснился верблюд. Он вытянул шею и спросил:
– Нуте-с, начинающий Песталоцци, как дела?
И захохотал Севкиным голосом.
С. Голицын . В поход! В поход! В поход!
Мы шли по берегу реки. Уже начало смеркаться.
Увидев ключ холодной прозрачной воды, Люся предложила остановиться на ночлег.
— Да, ты права, — согласилась Магдалина Харитоновна, — рекомендуется располагать лагерь возле источников.
— Привал! Ночлег! — скомандовала Люся.
Все остановились, с облегчением сбросили рюкзаки и принялись за работу.
Костровыми были оба близнеца. Чуть слышно обмениваясь им одним понятными словечками, они быстро разожгли костер. Им притаскивали сухие, выкинутые весенним паводком ветки, и скоро костер запылал так жарко, что к нему невозможно было близко подойти.
Кашеварами командовала Люся. Витя Большой и Витя Перец заранее, еще до разжигания костра, забили в землю две рогатки и на перекинутой палке подвесили оба ведра с водой.
Витя Большой важным, не допускающим возражений голосом предложил варить кашу каким-то аргентинским способом, о котором он вычитал у Майн Рида: сперва почти без воды, потом постепенно подливая воду.
Люся терпеливо выслушала и рассмеялась:
— Да ну тебя! Все подгорит, да мало будет. Уйди! Витя Большой обиделся.
— Люди опытнее тебя дают дельные советы, а ты не слушаешь! — пробормотал он и отошел в сторону.
Мальчики-рыбаки наладили удочки и скрылись в прибрежных кустах. Червей они запасли еще дома и принесли в карманах.
Девочки-«жилищницы» обламывали ольховые ветки, подтаскивали их к ближайшим кустам и ставили торчком в ряд, связывая макушки с растущими ветвями. Так получался уютный шалашик, внутри которого они расстилали еловые лапы и траву. Таких шалашей они понастроили пять штук.
Соня и Галя отправились в кусты за ежевичными и малиновыми листьями. Уже темнело, и надо было спешить подготовить чайную заварку.
Одним словом, всем нашлось дело. Только Володя-Индюшонок с фотоаппаратом на ремне гордо расхаживал между шалашами, засунув руки в карманы брюк, задрав кверху свой и без того курносый нос, и всех критиковал. Темнело, и сегодня фотографировать было уже поздно.
— Картошку взяли? — спрашивала Люся.
— Взяли! — хором ответили все, кроме меня и Сони.
— Сахар взяли?
— Взяли!
— Хлеб взяли?
— Взяли!
— Лук взяли?
Оказалось, только одна Галя принесла зеленый лук.
— А у меня есть лавровый лист и черный перец, — радостно сообщила Магдалина Харитоновна.
Я подумал: вот не догадался, надо было захватить хоть конфеток.
Вода в обоих ведрах закипела. В одно засыпали пшенный концентрат, в другое — сухой кисель. Витя Большой стал мешать кашу ольховой палкой-мешалкой с таким серьезным видом, точно решал задачи.
Тут выяснилось, что Галя и моя Соня забыли ложки. Да, так-таки и забыли; от смущения Галя поджала губки и скосила глаза на своих дядюшек, а Соня засмеялась.
— Самое важное и забыли! — рассердилась Магдалина Харитоновна.
Надо было действительно как можно скорее опустошить оба ведра, вымыть их и вновь поставить кипятить воду для чая, в одном ведре — из малиновых листьев, в другом — из ежевичных.
— Эх, вы! — презрительно бросил Володя. — Только всех задерживаете!
— С девчонками связаться — вечно одни недоразумения! — процедил Витя Большой.
— Сейчас выручим! — крикнул Гена.
Он подмигнул брату. Оба скатились к самой воде и стали там что-то искать.
Пока все усаживались вокруг ведер, наполненных жидкой пшенной кашей и киселем, а Люся разливала обед по кружкам, близнецы вновь вынырнули из-за кустов и с торжеством преподнесли девочкам ложки, да такие хорошенькие, что все моментально побросали свои алюминиевые и деревянные.
Новые ложки были сделаны из половинок раковин; к заостренному концу каждой из них близнецы прикрепили по палочке, чуть расщепив ее конец.
— Нигде я о таких странных приспособлениях для еды не читала, — забеспокоилась Магдалина Харитоновна.
— Перламутр из раковин не вреден, — робко возразил я. Кончилось тем, что все ребята, и Люся, и я стали есть пшенную кашу раковинными ложками. Одна Магдалина Харитоновна хмуро черпала алюминиевой.
Все поужинали. Костер догорал. Наступил черед рыболовов похвастаться своей добычей. Не меньше полусотни уклеек, плотвичек, окуньков, ершей принесли они в двух связках.
Все ножи, сколько их было, пошли в работу; разрезали рыбкам животы, насыпали внутрь соли и, не очищая чешуи, облепляли их мокрой глиной и закапывали в горячую золу — завтра на закуску.
— А я еще с детства знала, — ответила Люся.
— Помнится, Робинзон именно так запекал рыбу, — неуверенно добавил я.
Ночь наступила черная, тихая, теплая, вода в реке была тоже черная, прибрежные кусты еще чернее. Где-то у того берега — плеснула большая рыба, где-то в кустах вспорхнула птичка, и снова воцарилась тишина. А вокруг костра сидели и лежали наши путешественники и пели песни.
Сейчас все насытились, угомонились, петь перестанут, еще, чего доброго, снова начнут ко мне приставать: «Расскажите, расскажите о путешествиях». Я отошел в сторону, в кусты. Отсюда, из моего убежища, при оранжевом мерцающем свете костра, на фоне полной темноты фигуры всех ребят, отбрасывающие призрачные, трепетные тени, напоминали таинственных изыскателей, ищущих несметные сокровища в недрах земли.
«Приеду домой в Москву — расскажу Мише и Тычинке, как мы отправились за окаменелостями и минералами, как мы начали поиски портрета. Вот только от мамы нам попадет: и я и Соня в первый раз в жизни ночуем в лесу, "на голой земле».
Неожиданно песня смолкла. Кое-кто из мальчиков и девочек встал. Они начали спорить, вертеть головами. Соня, предательница, указала пальцем в мою сторону. Ребята вскочили, побежали.
— Пионеротряд желает выслушать ваш доклад о путешествиях, — твердо сказал Витя Большой, подойдя ко мне.
— Айдате к костру, — затеребили меня оба близнеца.
И вот меня уже подхватили, поволокли под руки. Я еле переступал ногами и шел, словно к зубному врачу.
Вдруг вдали за рекой что-то заворчало, словно какой-то великан загромыхал громадными железными листами. Вдалеке вспыхнула молния. Все вскочили. Несомненно, приближалась гроза. Звезд не стало видно. По кустам зашелестел ветер. Наступила такая темнота, как в погребе.
Гроза в лесу ночью. Это очень страшно! И все же я ликовал. Непогода меня спасла по крайней мере на целые сутки!
— Как я была права! Как я доказывала, что ночевать нужно только в школе! — волновалась Магдалина Харитоновна. — Что нам теперь делать?
— Что делать? — удивленно переспросила Люся. — Прятаться надо. На горе ветвистые высокие ели, скорее туда!
— Нет, нет, ни в коем случае! Под елками нельзя! «Справочник туриста»… там все сказано… Надо что-то другое придумать, — стонала Магдалина Харитоновна.
А молния сверкнула так ярко, гром ударил так близко! Ребята схватили рюкзаки, стеснились в кучку, ожидая наших распоряжений.
Витя Большой выступил вперед:
— При дожде ковбои делают из одеял палатки. Сперва забивают два больших кола, потом по диагонали…
— Уйди ты со своими ковбоями! — перебила его Люся. — Товарищи, за мной, бегом! — скомандовала она.
И все помчались за ней в темноту, к невидимым елкам.
Побежал и я, побежала и Магдалина Харитоновна. Витя Большой начал было пригибать толстые ветки, да тут грянул такой удар, что он все побросал и заторопился нас догонять.
Все уселись под густыми черными елками, закутавшись в одеяла, плотно прижавшись друг к другу. Я с тоской вспоминал наши уютные шалаши с мягкими хвойными матрацами. Гром ударял так оглушительно, будто небо раскалывалось на отдельные глыбы, громовые взрывы следовали один за другим. Но гроза была сухая, без дождя; только ветер поднялся холодный, порывистый;, деревья тревожно качались и скрипели. Яркие вспышки молний поминутно освещали черный лес и настороженные ребячьи фигуры.
Сперва все сидели молча, только близнецы опять поссорились — чьей курточкой накрыть дрожавшую Галю. В конце концов они помирились: один пожертвовал курточку Гале, другой — Соне.
Дождь все не начинался, упало только несколько крупных капель.
— Володя, сюда! — позвала Люся. — Сфотографируй нас при свете молнии.
— Володечка, где же ты? — крикнула Магдалина Харитоновна.
Володя не откликался. Где же он? Куда пропал Индюшонок?
— Володька! — закричали мальчики.
— Да вот он!
Его обнаружили при очередной вспышке молнии. Он спрятался с головой под одеяло и громко стучал зубами.
— Володя, что с тобой?
— Я, я… я домой хочу! — Голос у Володи был такой же плаксивый, как у Сони в прошлом году, когда она разбила куклу.
Все дружно захохотали. Володька — такой хвастун и вдруг грозы испугался.
— Эх, ты! Стыдно! — набросилась на него Люся. — А еще хочешь быть кинооператором! Кинооператоры — настоящие изыскатели: они залезают к тиграм в клетки, фотографируют в тайге медведей, на воде крокодилов…
Гроза стала удаляться. Молнии блистали все реже, ветер стихал.
— А знаете что? — весело воскликнула Люся и вскочила. — Дождя не будет. Идемте в наши милые шалаши, и скорее спать, спать!
Г. Троепольский. Прощание с другом
Как-то после охоты Иван Иваныч пришел домой, накормил Бима и лег в постель, не поужинав и не выключив свет. В тот день Бим здорово наработался, потому быстро уснул и ничего не слышал. Но в последующие дни и Бим стал замечать, что хозяин все чаще ложится и днем, о чем-то печалится, иногда внезапно охнет от боли. Больше недели Бим гулял один, неподолгу - по надобности. Потом Иван Иваныч слег, он еле-еле доходил до двери, чтобы выпустить или впустить Бима. Однажды он простонал в постели
как-то особенно тоскливо. Бим подошел, сел у кровати, внимательно посмотрел в лицо друга, затем положил голову на вытянутую его руку. Он увидел, какое стало у хозяина лицо: бледное бледное, под глазами темные каемки, небритый подбородок заострился. Иван Иваныч повернул голову к Биму и тихо, ослабевшим голосом сказал:
- Ну? Что будем делать, мальчик?.. Худо мне, Бим, плохо. Осколок... Подполз под сердце. Плохо, Бим.
Голос его был таким необычным, что Бим заволновался. Он заходил по комнате, то и дело царапаясь в дверь, как бы зовя: "Вставай, дескать, пойдем, пойдем". А Иван Иваныч боялся пошевелиться. Бим снова сел около него и проскулил тихонько.
- Что же, Бимка, давай попробуем, - еле выговорил Иван Иваныч и осторожно привстал.
Он немного посидел на кровати, затем стал на ноги и, опираясь одной рукой о стену, другую держа у сердца, тихо переступал к двери. Бим шел рядом с ним, не спуская взгляда с друга, и ни разу, ни разу не вильнул хвостом. Он будто хотел сказать: ну, вот и хорошо. Пошли, пошли потихоньку, пошли.
На лестничной площадке Иван Иваныч позвонил в соседнюю дверь, а когда появилась девочка, Люся, он что-то ей сказал. Та убежала к себе в комнату и вернулась со старушкой, Степановной. Как только Иван Иваныч сказал ей то же самое слово "осколок", она засуетилась, взяла его под руку и повела обратно.
- Вам надо лежать, Иван Иваныч. Лежать. Вот так, - заключила она, когда тот вновь лег на спину. - Только лежать. - Она взяла со стола ключи и быстро ушла, почти побежала, засеменив по старушечьи.
Конечно, Бим воспринял слово "лежать", повторенное трижды, так, будто оно относится и к нему. Он лег рядом с кроватью, не спуская взора с двери: горестное состояние хозяина, волнение Степановны и то, что она взяла со стола ключи, - все это передалось Биму, и он находился в тревожном ожидании.
Вскоре он услышал: ключ вставили в скважину, замок щелкнул, дверь открылась, в прихожей заговорили, затем вошла Степановна, а за нею трое чужих в белых халатах - две женщины и мужчина. От них пахло не так, как от других людей, а скорее тем ящичком, что висит на стене, который хозяин
открывал только тогда, когда говорил: "Худо мне, Бим, худо, плохо".
Мужчина решительно шагнул к кровати, но...
Бим бросился на него зверем, упер ему в грудь лапы и дважды гавкнул изо всей силы.
"Вон! Вон!" - Прокричал Бим.
Мужчина отпрянул, оттолкнув Бима, женщины выскочили в прихожую, а Бим сел у кровати, дрожал всем телом и, видно, был готов скорее отдать жизнь, чем подпустить неведомых людей к другу в такую трудную для него минуту.
Врач, стоя в дверях, сказал:
- Ну и собака! Что же делать?
Тогда Иван Иваныч позвал Бима жестом поближе, погладил его по голове, чуть повернувшись. А Бим прижался к другу плечом и лизал ему шею, лицо, руки...
- Подойдите, - тихо произнес Иван Иваныч, глядя на врача.
Тот подошел.
- Дайте мне руку.
Тот подал.
- Здравствуйте.
- Здравствуйте, - сказал врач.
Бим прикоснулся носом к руке врача, что и означало на собачьем языке: "Что ж поделаешь! Так тому быть: друг моего друга - мне друг".
Внесли носилки. Положили на них Ивана Иваныча. Он проговорил:
- Степановна... Присмотрите за Бимом, дорогая. Выпускайте утром. Он сам приходит скоро... Бим будет меня ждать. - И к Биму: - Ждать... Ждать...
Бим знал слово "ждать": у магазина - "сидеть, ждать", у рюкзака на охоте - "сидеть, ждать". Сейчас он привизгнул, повиляв хвостом, что означало: "О, мой друг вернется! Он уходит, но скоро вернется".
Только понял его один Иван Иваныч, остальные не поняли - это он увидел в глазах всех. Бим сел у носилок и положил на них лапу. Иван Иваныч пожал ее.
- Ждать, мальчик. Ждать.
Вот этого Бим никогда не видел у своего друга, чтобы вот так горошинами скатилась вода из глаз.
Когда унесли носилки и щелкнул замок, он лег у двери, вытянул передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону: так собаки ложатся, когда им больно и тоскливо они и умирают чаще всего в такой позе.
Но Бим не умер от тоски, как та собака поводырь, прожившая со слепым человеком много лет. Та легла около могилы хозяина, отказалась от пищи, приносимой кладбищенскими доброхотами, а на пятый день, когда взошло солнце, она умерла. И это быль, а не выдумка. Зная необыкновенную собачью преданность и любовь, редко какой охотник скажет о собаке: "издохла", он всегда скажет: "умерла".
Нет, Бим не умер. Биму сказано точно: "ждать". Он верит - друг придет. Ведь сколько раз было так: скажет "ждать" - и обязательно придет.
Ждать! Вот теперь вся цель жизни Бима.
Но как тяжко было в ту ночь одному, как больно! Что-то делается не так, как обычно... От халатов пахнет бедой. И Бим затосковал.
В полночь, когда взошла луна, стало невыносимо. Рядом с хозяином и то она всегда беспокоила Бима, эта луна: у нее глаза есть, она смотрит этими мертвыми глазами, светит мертвым холодным светом, и Бим уходил от нее в темный угол. А теперь даже в дрожь бросает от ее взгляда, а хозяина нет. И вот глубокой ночью он завыл, протяжно, с подголоском, завыл как перед напастью. Он верил, что кто-то услышит, а может быть, и сам хозяин услышит.
Пришла Степановна.
- Ну, что ты, Бим? Что? Ивана Иваныча нету. Ай-ай-ай, плохо.
Бим не ответил ни взглядом, ни хвостом. Он только смотрел на дверь. Степановна включила свет и ушла. С огнем стало легче - луна отодвинулась дальше и стала меньше. Бим устроился под самой лампочкой, спиной к луне, но вскоре снова лег перед дверью: ждать.
Утром Степановна принесла кашу, положила ее в Бимову миску, но он даже и не встал. Так поступала и собака поводырь - она не поднималась с места и тогда, когда приносили пищу.
- Ты смотри, сердешный какой, а? Это ж уму непостижимо. Ну, пойди погуляй, Бим. - Она распахнула дверь. - Пойди погуляй.
Бим поднял голову, внимательно посмотрел на старушку. Слово "гулять" ему знакомо, оно означает - воля, а "поди, поди гулять" - полная свобода. О, Бим знал, что такое свобода: делай все, что разрешит хозяин. Но вот его нет, а говорят: "пойди погуляй". Какая же это свобода?
Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, что такие, как Бим, понимают человека и без слов, а те слова, что они знают, вмещают в себе многое, и, соответственно случаю, разное. Она, по простоте душевной, сказала:
- Не хочешь кашу, пойди поищи чего-нибудь. Ты и травку любишь. Небось и на помойке что-то раскопаешь (не знала она по наивности, что Бим к помойкам не прикасался). Пойди поищи.
Бим встал, даже встрепенулся. Что такое? "Ищи"? Что искать? "Ищи" означает: ищи спрятанный кусочек сыра, ищи дичь, ищи потерянную или спрятанную вещь. "Ищи" - это приказ, а что искать - Бим определяет по обстоятельствам, по ходу дела. Что же сейчас искать?
Все это он сказал Степановне глазами, хвостом, вопросительным перебором передних лам, но она ничегошеньки не поняла, а повторила:
- Пойди гулять. Ищи!
И Бим бросился в дверь. Молнией проскочил ступеньки со второго этажа, выскочил во двор. Искать, искать хозяина! Вот что искать - больше нечего: так он понял. Вот здесь стояли носилки. Да, стояли. Вот уже со слабым запахом следы людей в белых халатах. След автомобиля. Бим сделал круг, вошел в него (так поступила бы даже самая бездарная собака), но опять - тот же след. Он потянул по нему, вышел на улицу и сразу же потерял его около угла: там вся дорога пахла той же резиной. Человеческие следы есть
разные и много, а автомобильные слились все вместе и все одинаковые. Но тот, нужный ему след пошел со двора туда, за угол, значит, и надо - туда.
Бим пробежал по одной улице, по другой, вернулся к дому, обегал места, где они гуляли с Иваном Иванычем, - нет признаков, никаких и нигде. Однажды он издали увидел клетчатую фуражку, догнал того человека - нет, не он. Присмотревшись внимательнее, он установил: оказывается, в клетчатых фуражках идут многие-многие. Откуда ему было знать, что в эту осень продавали только клетчатые фуражки и потому они нравились всем. Раньше он этого как-то не приметил, потому что собаки всегда обращают внимание (и запоминают) главным образом на нижнюю часть одеяния человека. Это у них еще от волка, от природы, от многих столетий. Так, лиса, например, если охотник стал за густой куст, закрывающий только до пояса, не замечает человека, если он не шевелится и если ветер не доносит от него запаха. Так что Бим увидел неожиданно в этом какой-то отдаленный смысл: поверху искать нечего, так как головы могут быть одинаковыми по цвету, подогнанными друг под друга.
День выдался ясный. На некоторых улицах листья пятнами покрыли тротуары, на некоторых лежали сплошь, так-что, попадись хоть частичка следа хозяина, Бим ее уловил бы. Но - нигде и ничего.
К середине дня Бим отчаялся. И вдруг в одном из дворов он наткнулся на след носилок: тут они стояли. А потом струя того же запаха потекла со стороны. Бим пошел по ней, как по битой дорожке. Пороги отдавали людьми в белых халатах. Бим поцарапался в дверь. Ему открыла девушка тоже в белом халате и отпрянула с испуга. Но Бим приветствовал ее всеми способами, спрашивая: "Нет ли здесь Ивана Иваныча?"
- Уйди, уйди! - закричала она и закрыла дверь. Потом приоткрыла и крикнула кому-то: - Петров! Прогони кобеля, а то мне шеф намылит шею, начнет выпинаться: "Псарня, а не "скорая помощь"! Гони!
От гаража подошел человек в черном халате, затопал ногами на Бима и вовсе незлобно прокричал, как бы по обязанности и даже с ленцой:
- Вот я тебе, тварь! Пошел! Пошел!
Никаких таких слов, как "шеф", "псарня", "гони", "мылить шею", "выпинаться" и уж тем более "скорая помощь", Бим не понимал и даже вовсе никогда не слышал, но слова "уйди" и "пошел", в сочетании с интонацией и настроением, он понял прекрасно. Тут Бима не обмануть. Он отбежал на некоторое расстояние и сел, и смотрел на ту дверь. Если бы люди знали, что ищет Бим, они ему помогли бы, хотя Ивана Ивановича сюда и не привозили, а доставили прямо в больницу. Но что поделаешь, если собаки понимают людей, а люди не всегда понимают собак и даже друг друга. Кстати, Биму недоступны такие глубокие мысли непонятно было и то, на каком основании его не пропускают в дверь, в которую он честно царапался, доверительно и прямодушно, и за которой, по всей вероятности, находится его друг.
Бим сидел у куста сирени с поблеклыми уже листьями до самого вечера. Приезжали машины, из них выходили люди в белых халатах и вели кого-то под руки или просто шли следом изредка выносили из автомобиля человека на носилках, тогда Бим чуть приближался, проверял запах: нет, не он. В вечеру
на собаку обратили внимание и другие люди. Кто-то принес ему кусочек колбасы - Бим не притронулся, кто-то хотел взять его за ошейник - Бим отбежал, даже тот дядька в черном халате несколько раз проходил мимо и, остановившись, смотрел на Бима сочувственно и не топал ногами. Бим сидел статуей и никому ничего не говорил. Он ждал.
В сумерках он спохватился: вдруг хозяин-то дома? И побежал торопливо, легким наметом.
По городу бежала красивая с блестящей шерстью, ухоженная собака - белая, с черным ухом. Любой добрый гражданин скажет: "Ах, какая милая охотничья собака!"
Бим поцарапался в родную дверь, но она не открылась. Тогда он лег у порожка, свернувшись калачиком. Не хотелось ни есть, ни пить - ничего не хотелось. Тоска.
На площадку вышла Степановна:
- Пришел, горемышный?
Бим вильнул хвостом только один раз ("пришел").
- Ну вот теперь и поужинай. - Она пододвинула ему миску с утренней кашей.
Бим не притронулся.
- Так и знала: накормился сам. Умница. Спи, - и закрыла за собой дверь.
В эту ночь Бим уже не выл. Но и не отходил от двери: ждать!
А утром снова забеспокоился. Искать, искать друга! В этом весь смысл жизни. И когда Степановна выпустила его, он, во-первых, сбегал к людям в белых халатах. Но на этот раз какой-то тучный человек кричал на всех и часто повторял слово "собака". В Бима бросали камнями, хотя и нарочито мимо, махали на него палками и наконец больно-пребольно стегнули длинной хворостинкой. Бим отбежал, сел, посидел малость и, видимо, решил: тут его быть не может, иначе не гнали бы так жестоко. И ушел Бим, слегка опустив голову.
По городу шел одинокий, грустный, ни за что обиженный пес.
Вышел он на кипучую улицу. Людей было видимо-невидимо, и все спешили, изредка торопливо перебрасываясь словами, текли куда-то и текли без конца.
Наверняка Биму пришло в голову: "А не пройдет ли он здесь?" И без всякой логики сел в тени, на углу, неподалеку от калитки, и стал следить, не пропуская своим вниманием почти ни одного человека.
Во-первых, Бим заметил, что все люди, оказывается, пахнут автомобильным дымом, а уж через него пробиваются другие запахи разной силы.
Вот идет человек, тощий, высокий, в больших, порядком стоптанных ботинках, и несет в сетке картошку, такую же, какую приносил домой хозяин. Тощий несет картошку, а пахнет табаком. Шагает быстренько, спешит, будто кого-то догоняет. Но это только показалось - догоняют кого-то все. И все
что-то ищут, как на полевых испытаниях, иначе зачем и бежать по улице, забегать в двери и выбегать и снова бежать?
- Привет, Черное Ухо! - бросил тощий на ходу.
"Здравствуй" - угрюмо ответил Бим, двинув по земле хвостом, не растрачивая сосредоточенности и вглядываясь в людей.
А вот за ним идет человек в комбинезоне, пахнет он так, как пахнет стена, когда ее лизнешь (мокрая стена). Он почти весь серо-белый. Несет длинную белую палку с бородкой на конце и тяжелую сумку.
- Ты чего тут? - спросил он у Бима, остановившись. - Уселся ждать хозяина или затерялся?
"Да, ждать", - ответил Бим, посеменив передними лапами.
- Тогда на-ка вот тебе. - Он вынул из сумки кулек, положил перед Бимом конфету и потрепал пса за черное ушко. - Ешь, ешь. (Бим не прикоснулся.) Дрессированный. Интеллигент! Из чужой тарелки есть не будет.
- И пошел дальше тихо, спокойненько, не так, как все.
Кому как, а для Бима этот человек - хороший: он знает, что такое "ждать", он сказал "ждать", он понял Бима.
Толстый-претолстый, с толстой палкой в руке, в толстых черных очках на носу, несет толстую папку: все все у него толсто. Пахнет он явно бумагами, по каким Иван Иваныч шептал палочкой, и еще, кажется, теми желтыми бумажками, какие всегда кладут в карман. Он остановился около Бима и сказал:
- Фух! Ну и ну! Дошли: кобели на проспекте.
Из калитки появился дворник с метлой и стал рядом с толстым. А тот продолжал, обращаясь к дворнику, указывая пальцем на Бима:
- Видишь? На твоей небось территории?
- Факт, вижу, - и оперся на метлу, поставив ее вверх бородой.
- Видишь... Ничего ты не видишь, - сказал сердито. - Даже конфету не жрет, заелся. Как же дальше жить?! - он злился вовсю.
- А ты не живи, - сказал дворник и равнодушно добавил: - Ишь как ты исхудал, бедняга.
- Оскорбляешь! - рявкнул толстый.
Остановились трое молодых ребят и почему-то улыбались, глядя то на толстого, то на Бима.
- Чего вам смешно? Чего смешно? Я ему говорю... Собака! Тыща собак,
по два три кило мяса каждой - две три тонны в день. Соображаете, сколько получится?
Один из ребят возразил:
- Три кило и верблюд не съест.
Дворник невозмутимо внес поправку:
- Верблюды мясо не едят. - Неожиданно он перехватил метлу поперек палки и так-то сильно замахал ею по асфальту перед ногами толстого. - Посторонись, гражданин! Ну? Я чего сказал, дубова твоя голова!
Толстый ушел, отплевываясь. Те трое ребят тоже пошли своей дорогой, посмеиваясь. Дворник тут же и перестал мести. Он погладил Бима по спине, постоял немного и сказал:
- Сиди, жди. Придет, - и ушел в калитку.
Из всей этой перепалки Бим не только понял - "мясо", "собака", возможно, "кобели", но слышал интонацию голосов, и, главное, все видел, а этого уже достаточно для того, чтобы умной собаке догадаться: толстому - плохо жить, дворнику - хорошо. Один - злой, другой - добрый. Кому уж лучше знать, как не Биму, что ни свет ни заря на улицах живут только дворники и что они уважают собак. То, что дворник прогнал толстого, Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то это случайная пустяковая история только отвлекла
Бима. Хотя, может быть, оказалась полезной в том смысле, что он начинал смутно догадываться: люди все разные, они могут быть и хорошими, и плохими. Ну что ж, и то польза, скажем мы со стороны. Но пока для Бима это было совершенно неважно - не до того: он смотрел и смотрел на проходящих.
От некоторых женщин пахло остро и невыносимо, как от ландышей, пахло теми беленькими цветами, что ошарашивают нюх и возле которых Бим становился бесчутым. В таких случаях Бим отворачивался и несколько секунд не дышал - ему не нравилось. У большинства женщин губы были такого цвета, как флажки на волчьей облаве. Биму такой цвет тоже не нравился, как и всем животным, а собакам и быкам в особенности. Почти все женщины что-нибудь несли в руках. Бим приметил, что мужчины с поноской попадаются реже, а женщины - часто.
...А Ивана Иваныча все нет и нет. Друг ты мой! Где же ты?...
Люди текли и текли. Тоска Бима как-то немножко забылась, рассеялась среди людей, и он еще внимательней вглядывался вперед - не идет ли он.
Сегодня Бим будет ждать здесь. Ждать!
Около него остановился человек с мясистыми обвислыми губами, крупно морщинистый, курносый, с глазами навыкате, и вскричал:
- Безобразие! (Люди стали останавливаться.) Кругом грипп, эпидемия, рак желудка, а тут что? - тыкал он всей ладонью в Бима. - Тут среди массы народа, в гуще тружеников, сидит живая зараза!
- Не каждая собака - зараза. Смотрите, какой он милый пес, - возразила девушка.
Курносый смерил ее взглядом сверху вниз и обратно и отвернулся, возмущаясь:
- Какая дикость! Какая в вас дикость, гражданочка.
И вот... Эх, если бы Бим был человеком! Вот подошла та самая тетка, "советская женщина" - та клеветница. Бим сначала испугался, но потом, взъерошив шерсть на холке, принял оборонительную позицию. А тетка затараторила, обращаясь ко всем, стоящим полукругом в некотором отдалении
от Бима:
- Дикость и есть дикость! Она же меня укусила. У-ку-си-ла! - и показывала всем руку.
- Где укусила? - спросил юноша с портфельчиком. - Покажите.
- Ты мне еще, щенок! - Да и спрятала руку.
Все, кроме курносого, рассмеялись.
- Воспитали тебя в институте, чертенка, вот уж воспитали, гадёныш, - набросилась она на студента. - Ты мне, советской женщине, и не веришь? Да как же ты дальше-то будешь? Куда же мы идем, дорогие граждане? Или уж у нас советской власти нету?
Юноша покраснел и вспылил:
- Если бы вы знали, как выглядите со стороны, по позавидовали бы этой собаке. - Он шагнул к тетке и крикнул: - Кто дал вам право оскорблять?
Хотя Бим не понял слов, но выдержать больше не смог: он прыгнул в сторону тетки, гавкнул изо всей силы и уперся всеми четырьмя лапами, сдерживаясь от дальнейших поступков (за последствия он уже не ручался). Интеллигент! Но все-таки - собака!
Тетка завопила истошно:
- Мили-иция! Мили-иция!
Где-то засвистел свисток, кто-то, подходя, крикнул:
- Пройдемте, гр-раждане! Пройдемте по своим делам! - Это был милиционер (Бим даже повилял чуть хвостом, несмотря на возбуждение). – Кто кричал?! Вы? - обратился милиционер к тетке.
- Она, - подтвердил юноша студент.
Вмешался курносый:
- Куда вы смотрите! Чем занимаетесь? - запилил он милиционера. - Собаки, собаки - на проспекте областного города!
- Собаки! - кричала тетка.
- И такие вот дикие питекантропусы! - кричал и студент.
- Он меня оскорбил! - почти рыдала тетка.
- Граждане, р-разойдись! А вы, вы, да и вы, пройдемте в милицию, - указал он тетке, юноше и курносому.
- А собака? - взвизгнула тетка. - Честных людей - в милицию, а собаку...
- Не пойду, - отрубил юноша.
Подошел второй милиционер.
- Что тут?
Человек в галстуке и шляпе резонно и с достоинством разъяснил:
- Да вон, энтот студентишка не хочеть в милицию, не подчиняется. Энти вон, обоя, хотять, а энтот не хочеть. Неподчинение. А это не положено. Ведуть - должон иттить. Мало бы чего... - И он, отвернувшись от всех прочих, поковырял в собственном ухе большим пальцем, как бы расширяя слуховое отверстие. Явно это был жест убежденности, уверенности в прочности мыслей и безусловного превосходства перед присутствующими – даже перед милиционерами.
Оба милиционера переглянулись и все же увели студента с собой. Следом за ними потопали курносый и тетка. Люди разошлись, уже не обращая внимания на собаку, кроме той милой девушки. Она подошла к Биму, погладила его, но тоже пошла за милиционером. Сама пошла, как установил Бим. Он посмотрел ей вслед, потоптался на месте, да и побежал, догнал ее и пошел рядышком. Человек и собака шли в милицию.
- Кого же ты ждал, Черное Ухо? - спросила она, остановившись.
Бим уныло присел, опустил голову.
- И подвело у тебя живот, милый. Я тебя накормлю, подожди, накормлю, Черное Ухо.
Вот уже несколько раз называли Бима "Черное Ухо". И хозяин когда-то говорил: "Эх ты, черное ухо!" Давно-давно он так произнес, еще в детстве.
"Где же мой друг?" - думал Бим. И пошел опять же с девушкой в печали и унынии.
В милицию они вошли вместе. Там кричала тетка, рыкал курносый дядька, понурив голову, молчал студент, а за столом сидел милиционер, незнакомый, и явно недружелюбно посматривал на всех троих.
Девушка сказала:
- Привела виновника, - и указала на Бима. - Милейшее животное. Я все видела и слышала там с самого начала. Этот парень, - она кивнула на студента, - ни в чем не виноват.
Рассказывала она спокойно, то указывая на Бима, то на кого-нибудь из тех трех. Ее пытались перебить, но милиционер строго останавливал и тетку, и курносого. Он явно дружелюбно относился к девушке. В заключение она спросила шутя:
- Правильно я говорю, Черное Ухо? - А обратившись к милиционеру, еще добавила: - Меня зовут Даша. - Потом к Биму: - Я Даша. Понял?
Бим все существом показал, что он ее уважает.
- А ну, пойди ко мне, Черное Ухо. Ко мне? - позвал милиционер.
О, Бим знал это слово: "Ко мне". Точно знал. И подошел.
Тот пошлепал по шее легонько, взял за ошейник, рассмотрел номерок и записал что-то. А Биму приказал:
- Лежать!
Бим лег, как и полагается: задние ноги под себя, передние вытянуты вперед, голова - глаза в глаза с собеседником и чуть набочок.
Теперь милиционер спрашивал в телефонную трубку:
- Союз охотников?
"Охота! - вздрогнул Бим. - Охота! Что же это значит здесь-то?"
- Союз охотников? Из милиции. Номер двадцать четыре посмотрите. Сеттер... Как так нету? Не может быть. Собака хорошая, дрессированная... В горсовет? Хорошо. - Положил трубку и еще раз взял, что-то спрашивал и стал записывать, повторял вслух: - Сеттер... С внешними наследственными дефектами, свидетельства о родословной нет, владелец Иван Иванович Иванов, улица Проезжая, сорок один. Спасибо. - Теперь он обратился к девушке: - Вы, Даша, молодец. Хозяин нашелся.
Бим запрыгал, ткнул носом в колено милиционера, лизнул руку Даше и смотрел ей в глаза, прямо в глаза, так, как могут смотреть только умные и ласковые доверчивые собаки. Он ведь понял, что говорили про Ивана Иваныча, про его друга, про его брата, про его бога, как сказал бы человек в таком случае. И вздрагивал от волнения.
Милиционер строго буркнул тетке и курносому:
- Идите. До свидания.
Дядька начал пилить дежурного:
- И это все? Какой же у вас будет порядок после такого? Распустили!
- Идите, идите, дед. До свидания. Отдыхайте.
- Какой я тебе дед? Я тебе - отец, папаша. Даже нежное обращение позабывали, с-сукины сыны. А хотите вот таких, - ткнул он в студента, - воспитывать, по головке гладить, по головке. А он вас - подождите! - гав! и скушает. - Гавкнул действительно по-собачьи, натурально.
Бим, конечно, ответил тем же.
Дежурный рассмеялся:
- Смотрите-ка, папаша, собака-то понимает, сочувствует.
А тетка, вздрогнув от двойного лая человека и собаки, попятилась от Бима к двери и кричала:
- Это он на меня, на меня! И в милиции - никакой защиты советской женщине!
Они ушли все-таки.
- А меня что - задержите? - угрюмо спросил студент.
- Подчиняться надо, дорогой. Раз приглашают - обязан идти. Так положено.
- Положено? Ничего такого не положено, чтобы трезвого вести в милицию под руки, как вора. Тетке этой надо бы пятнадцать суток, а вы... Эх, вы! - И ушел, пошевелив Биму ухо.
Теперь Бим уже совсем ничего не понимал: плохие люди ругают милиционера, хорошие тоже ругают, а милиционер терпит да еще посмеивается тут, видимо, и умной собаке не разобраться.
- Сами отведете? - спросил дежурный у Даши. - Сама. Домой. Черное Ухо, домой.
Бим теперь шел впереди, оглядываясь на Дашу и поджидая: он отлично знал слово "домой" и вел ее именно домой. Люди-то не сообразили, что он и сам пришел бы в квартиру, им казалось, что он малоумный пес, только Даша все поняла, одна Даша - вот эта белокурая девушка, с большими задумчивыми
и теплыми глазами, которым Бим поверил с первого взгляда. И он привел ее к своей двери. Она позвонила - ответа не было. Еще раз позвонила, теперь к соседям. Вышла Степановна. Бим ее приветствовал: он явно был веселее, чем вчера, он говорил: "Пришла Даша. Я привел Дашу". (Иными словами нельзя объяснить взгляды Бима на Степановну и на Дашу попеременно.)
Женщины разговаривали тихо, при этом произносили "Иван Иваныч" и "осколок", затем Степановна открыла дверь. Бим приглашал Дашу: не спускал с нее глаз. Она же первым делом взяла миску, понюхала кашу и сказала:
- Прокисла. - Выбросила кашу в мусорную ведро, вымыла миску и поставила опять на пол. - Я сейчас приду. Жди, Черное Ухо.
- Его зовут Бим, - поправила Степановна.
- Жди, Бим. - И Даша вышла.
Степановна села на стул. Бим сел против нее, однако поглядывая все время на дверь.
- А ты пес сообразительный, - заговорила Степановна. - Остался один, а видишь вот, понимаешь, кто к тебе с душой. Я вот, Бимка, тоже... На старости лет с внучкой живу. Родители-то народили да и подались аж в Сибирь, а я воспитала. И она, внучка то, хорошо меня любит, всем сердцем к_о мне.
Степановна изливала душу сама перед собой, обращаясь к Биму. Так иногда люди, если некому сказать, обращаются к собаке, к любимой лошади или кормилице корове. Собаки же выдающегося ума очень хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие. А тут обоюдно: Степановна явно жалуется ему, а Бим горюет, страдает оттого, что люди в белых халатах унесли друга ведь все неприятности дня всего лишь немного отвлекли боль Бима, сейчас же она вновь возникла с еще большей силой. Он отличил в речи Степановны два знакомых слова "хорошо" и "ко мне", сказанных с грустной теплотой. Конечно же, Бим приблизился к ней вплотную и положил голову на колени, а Степановна приложила платок к глазам.
Даша вернулась со свертком. Бим тихо подошел, лег животом на пол, положил одну лапу на ее туфлю, а голову - на другую лапу. Так он сказал:
"Спасибо тебе".
Даша достала из бумаги две котлеты, две картофелины и положила их в миску:
- Возьми.
Бим не стал есть, хотя третьи сутки у него не было во рту ни крохи.
Даша легонько трепала его за холку и ласково говорила:
- Возьми, Бим, возьми.
Голос у Даши мягкий, душевный, тихий и, казалось, спокойный, руки теплые и нежные, ласковые. Но Бим отвернулся от котлет. Даша открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Бим подержал, подержал ее во рту, удивленно глядя на Дашу, а котлета тем временем проглотилась сама. Так произошло и со второй. С картошкой - то же.
- Его надо кормить насильно, - сказала Даша Степановне. - Он тоскует о хозяине, потому и не ест.
- Да что ты! - удивилась Степановна. - Собака сама себе найдет.
Сколько их бродит, а едят же.
- Что же делать? - спросила Даша у Бима. - Ты ведь так пропадешь.
- Не пропадет, - уверенно сказала Степановна. - Такая умная собака не пропадет. Раз в день буду варить ему кулеш. Что ж поделаешь? Живность.
Даша о чем-то задумалась, потом сняла ошейник.
- Пока я не принесу ошейник, не выпускайте Бима. Завтра часам к десяти утра приду... А где же теперь Иван Иваныч? - спросила она у Степановны.
Бим встрепенулся: о нем!
- Увезли самолетом в Москву. Операция на сердце сложная. Осколок-то рядом.
Бим - весь внимание: "осколок", опять "осколок". Слово это звучит горем. Но раз они говорят про Ивана Иваныча, значит, где-то должен быть. Надо искать. Искать!
Даша ушла. Степановна - тоже. Бим снова остался один коротать ночь. Теперь он нет-нет да и вздремнет, но только на несколько минут. И каждый раз он видел во сне Ивана Иваныча - дома или на охоте. И тогда он вскакивал, осматривался, ходил по комнате, нюхал по углам, прислушивался к тишине и вновь ложился у двери. Очень сильно болел рубец от хворостины, но это было ничто в сравнении с большим горем и неизвестностью. Ждать. Ждать.
Стиснуть зубы и ждать.
Н. А.Некрасов
1
Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно - покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни -
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...
2
Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно громаден -
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие - в страшной борьбе,
В жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Чу, восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?..."В ночь эту лунную,
Любо нам видеть свой труд!
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цынгой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё притерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
Братья! вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?.."
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого -
Это всё! братья твои - мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес эту дорогу железную -
Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё - и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
3
В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул - исчезла толпа мертвецов!
"Видел, папаша, я сон удивительный, -
Ваня сказал, - тысяч пять мужиков,
Русских племен и пород представители
Вдруг появились - и он мне сказал:
"Вот они - нашей дороги строители!.."
Захохотал генерал!
"Был я недавно в стенах Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... всё это народ сотворил?
Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?
Вот ваш народ - эти термы и бани,
Чудо искусства - он всё растаскал!"
-"Я говорю не для вас, а для Вани..."
Но генерал возражать не давал:
"Ваш славянин, англосакс и германец
Не создавать - разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;
Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону..."
4
- "Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены - немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ
Тесной гурьбой у конторы собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!
Всё заносили десятники в книжку -
Брал ли на баню, лежал ли больной.
"Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот поди ты!.." - махнули рукой...
В синем кафтане - почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.
Праздный народ расступается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
"Ладно... нешто... молодца!.. молодца!..
С богом, теперь по домам, - проздравляю!
(Шапки долой - коли я говорю!)
Бочку рабочим вина выставляю
И - недоимку дарю..."
Кто-то "ура" закричал, Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей - и купчину
С криком "ура" по дороге помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..
А. Н. Майков. Осень.
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щеки горят;
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!
Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлек:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;
Долго на листьях, лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес...
Листья шумят под ногой;
Смерть стелет жатву свою...
Только я весел душой
И, как безумный, пою!
Знаю, недаром средь мхов
Ранний подснежник я рвал;
Вплоть до осенних цветов
Каждый цветок я встречал.
Что им сказала душа,
Что ей сказали они -
Вспомню я, счастьем дыша,
В зимние ночи и дни!
Листья шумят под ногой...
Смерть стелет жатву свою!
Только я весел душой -
И, как безумный, пою!
Внеклассное чтение.
В. Гюго. Козетта
1
Больше ста лет тому назад в деревне Монфермейль, недалеко от Парижа, стоял трактир-гостиница, где останавливались проезжающие. Трактир содержали муж и жена Тенардье.
Однажды весенним вечером на пороге трактира сидела хозяйка Тенардье. Две хорошенькие маленькие девочки - её дочки - играли рядом. По дороге, мимо трактира, шла женщина с ребёнком на руках. Она остановилась и долго смотрела на девочек.
- Какие у вас хорошенькие дети, сударыня! - сказала она.
Хозяйка Тенардье подняла голову, поблагодарила и предложила ей сесть. Женщины разговорились. Мать с ребёнком шла из Парижа; она осталась без работы и шла теперь на родину в поисках заработка. Она знала, что с ребёнком её никуда не возьму и ей надо было на время устроить у кого-нибудь свою девочку. Но у неё не было в мире никого, кроме ребёнка, и у ребёнка не было в мире никого, кроме матери.
Увидев таких весёлых чистеньких детей, она подумала, что у них, должно быть, хорошая мать и что сам бог направил к трактиру Тенардье.
- Согласны вы оставить мою девочку у себя? - вдруг с глубоким волнением спросила она хозяйку трактира. - Я буду платить вам и скоро вернусь за ней.
Тенардье согласилась взять девочку. Ей было около трёх лет, это была крепкая, здоровая девочка с большими голубыми глазами. Её звали Козетта. Мать аккуратно платила за неё, и Тенардье писали ей, что девочка чувствует себя превосходно. Но это была неправда. Злые, жадные и хитрые люди, Тенардье возненавидели девочку: одевали её в старые платья своих дочерей, кормили под столом объедками вместе с кошкой и собакой, а когда Козетта немного подросла, то стала служанкой в доме. Её заставляли подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, таскать тяжести. Трактир Тенардье походил на паутину, запутавшись в которой, билась Козетта. И если б приехала мать, то она бы не узнала своего ребёнка. Но мать не приезжала и уже давно не присылала денег. Может быть, она умерла?
Так прошло несколько лет.
По сторонам дороги тянулись дома или редкие заборы. Козетта шла довольно смело. Изредка сквозь щели ставней пробивался луч света - там была жизнь, были люди, и Козетту это ободряло. Но по мере того как она продвигалась вперёд, шаги становились всё медленнее и медленнее. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавки было страшно, пройти дальше последнего дома казалось невозможным.
Козетта поставила ведро на землю. Перед ней было поле - чёрное пустое пространство. С отчаянием смотрела она в эту минуту, туда, где не было людей, где были звери и, может быть, даже привидения.
Козетта схватила ведро, страх придавал ей силы.
«Скажу ей, что воды не было!» - подумала Козетта и решительно повернула домой. Но, едва сделав сотню шагов, она снова остановилась. Теперь ей представилась хозяйка Тенардье, отвратительная, страшная Тенардье с пастью гиены и с горящими злобой глазами. Девочка жалобно посмотрела назад, потом вперёд. Что делать? Куда идти?.. Впереди - Тенардье, позади - мрак* и лес. Козетта повернулась и бросилась бегом по дороге к источнику. Она выбежала из деревни, добежала до леса, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она перестала бежать только для того, чтобы перевести дух, но и тогда она всё-таки продолжала идти. Так добралась она до источника.
Было очень темно, но Козетта привыкла ходить сюда за водой. В темноте нащупала она левой рукой склонившийся над водой молодой дубок, который обычно служил ей опорой. Ухватившись за ветку, она нагнулась и погрузила ведро в воду. Девочка не заметила, как в это время из кармана её передника упала в воду монета в пятнадцать су*.
Она вытащила почти полное ведро воды и поставила его на траву. Тут только она почувствовала, что не может сделать больше ни шагу; она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.
Козетта закрыла глаза, потом открыла их. Рядом с ней в ведре колыхалась вода, расходясь кругами. Над головой расстилалось небо, покрытое тяжёлыми тёмными тучами. Дул холодный ветер. Козетта встала. Страх снова охватил её. Скорее бежать, бежать
что есть силы и через лес, и через поле - к домам, к освещенным окнам, к горящим свечам. Взгляд её упал на ведро. И так велик был её страх перед хозяйкой Тенардье, что она не осмелилась оставить его. Она ухватилась обеими руками за ручку ведра, но у неё едва хватило силы поднять его.
Так прошла Козетта шагов двенадцать, но полное ведро было тяжёлым, и девочка принуждена была поставить его на землю. Она передохнула минутку, потом снова взялась за ручку и опять пошла. На этот раз она прошла немного больше, но вскоре опять остановилась, потом опять пошла. Козетта шла согнувшись, низко опустив голову, совсем как старуха. Ручка ведра впивалась в её маленькие, мокрые и окоченевшие от холода ладони; а когда она останавливалась, холодная вода расплёскивалась и обливала её голые ноги.
И всё это происходило в густом лесу, ночью, вдали от людей, а девочке было всего восемь лет!
Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом; рыданья сжимали её горло, но она не смела плакать - так боялась она Тенардье даже издали.
Козетта шла медленно. Она с тоской думала о том, что пройдёт не меньше часа, пока она вернётся домой, и что Тенардье непременно изобьёт её. Дойдя до старого, хорошо знакомого каштана, она сделала последнюю остановку, чтобы хорошенько отдохнуть; потом собрала все силы, подняла ведро и храбро пошла вперёд.
И вдруг она почувствовала, что ведро стало лёгким. Чья-то рука, которая показалась ей огромной, взяла ручку ведра.
Козетта подняла голову. Высокая чёрная фигура шагала в темноте рядом с ней. Это был человек, неслышно подошедший сзади. Девочка не испугалась.
Человек заговорил с ней. Голос у него был спокойный, тихий.
- Это ведро слишком тяжело для тебя, дитя моё.
- Да, сударь.
- Дай мне, я понесу его.
Козетта выпустила ручку ведра.
- Сколько тебе лет, девочка?
- Восемь лет, сударь.
- И ты издалека так идёшь?
- От источника в лесу.
- Кто же послал тебя так поздно в лес за водой?
- Госпожа Тенардье.
- А чем занимается эта твоя госпожа Тенардье?
- Это моя хозяйка, - ответила девочка. - У неё трактир.
- Трактир? - переспросил человек. - Ну, так я там переночую. Веди меня туда.
- Мы туда идём, — сказала Козетта.
Минуту спустя они стояли у двери трактира. Потом она постучала. Дверь отворилась.
Козетта не могла удержаться, чтобы не взглянуть на большую куклу, выставленную в окне игрушечной лавки, находящейся напротив трактира.
На пороге показалась госпожа Тенардье со свечой в руке.
- А, это ты, дрянная девчонка! Долго же ты ходила! Наверно, заигралась где-нибудь.
- Сударыня, - сказала Козетта, дрожа от страха, - этот господин хочет переночевать у нас.
На угрюмом лице хозяйки сейчас же показалась любезная гримаса. Но после того, как она внимательно осмотрела одежду незнакомца и его узелок с вещами, эта любезная гримаса исчезла.
- Очень жаль, но у меня совсем нет места, - сухо сказала она.
- Поместите меня где хотите, - отвечал человек, - на чердаке, в конюшне... Я заплачу, как за комнату.
- Сорок су.
- Сорок су? Хорошо.
Человек вошёл в зал, положил на лавку узелок и палку и сел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, требовавший воды для своей лошади, пошёл её поить. Козетта уселась на своё место под столом и принялась вязать. Человек пристально смотрел на Козетту.
Девочка была худа и бледна. Ей было восемь лет, но на вид можно было дать только шесть. Её руки потрескались от холода, босые ноги были худые и красные. Одета она была в лохмотья, и сквозь дыры одежды виднелось голое тело, покрытое синяками. Ей всегда было холодно, и она привыкла сидеть съёжившись, прижимая коленки одну к другой. И теперь, вернувшись домой вся измокшая, она не осмелилась даже подойти к очагу, чтобы просушиться.
Вдруг хозяйка закричала:
- Да, а где же хлеб?
Козетта, услышав крик хозяйки, поспешно вылезла из-под стола. Она совсем забыла о хлебе. Как все запуганные дети, она прибегла ко лжи:
- Сударыня, булочная была закрыта.
- Надо было постучать!
- Я стучала, сударыня.
- И что же?
- Мне не отперли.
- Завтра я узнаю, правда ли это, и если ты врёшь, то ты у меня запляшешь! А где деньги?
Козетта опустила руку в карман передника и побледнела: денег в кармане не было.
- Ты слышишь, что я тебе говорю?
Козетта вывернула карман. Куда пропали деньги? Бедняжка не находила слов. Она окаменела.
- Ты их потеряла, - закричала хозяйка, - или ты хочешь их украсть? - И она протянула руку к плётке, висевшей в углу над очагом. Это страшное движение хозяйской руки заставило Козет- ту закричать:
- Простите! Сударыня! Сударыня, я больше не буду!
Тенардье сняла плётку. Козетта забилась в угол. Она старалась съёжиться, защитить от ударов своё полуобнажённое маленькое тельце. В это время незнакомец незаметно для других пошарил в своём жилетном кармане.
- Виноват, сударыня, - сказал он, - я сейчас видел, как что-то упало из кармана девочки.
Он нагнулся и поискал на полу.
- Вот, - сказал он, вставая, и протянул монету Тенардье.
Но это была совсем не та монета - это была монета в двадцать су.
Хозяйка положила деньги в карман и, сурово взглянув на девочку, сказала:
- Чтобы этого в другой раз не было!
Козетта снова спряталась под стол, «в конуру», как говорила Тенардье.
- Кстати, вы будете ужинать? - спросила Тенардье незнакомца.
Он не отвечал. Он, казалось, глубоко задумался.
3
В это время открылась дверь и в комнату вошли Эпонина и Азельма.
Это были две хорошенькие маленькие девочки. У одной были каштановые, у другой - чёрные косы. Обе были такие весёлые, чистенькие, толстенькие, здоровые, что на них нельзя не любоваться. Обе были одеты в тёмные шерстяные нарядные платья.
Когда они вошли, госпожа Тенардье воскликнула:
- А, вот и вы наконец!
Она привлекла к себе каждую по очереди, пригладила им волосы, перевязала ленты.
Девочки уселись у огня. Они принесли с собой куклу и весело болтали. Козетта изредка отрывала глаза от своего вязания и грустно глядела на них. Эпонина и Азельма не смотрели на Козетту. Для них она была чем-то вроде собачонки.
Кукла сестёр Тенардье была старая, полинявшая, вся поломанная, но Козетте, у которой никогда в жизни не было куклы, настоящей куклы, она казалась необыкновенно красивой.
Вдруг Тенардье заметила, что Козетта, вместо того чтобы работать, смотрит на девочек:
- Так-то ты работаешь? Вот я тебя плёткой...
Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к хозяйке Тенардье.
- Сударыня, - робко сказал он, - ну пусть она поиграет!
Тенардье грубо ответила:
- Девочка должна работать, раз она ест мой хлеб! Я не могу её даром кормить.
- Что же она делает? - спросил незнакомец.
- Вяжет чулки моим девочкам, если вам угодно знать!
Незнакомец посмотрел на красные от холода ножки Козетты
и продолжал:
- Когда она кончит эту пару чулок?
- Этой лентяйке хватит работы по крайней мере ещё дня на три или четыре.
- А сколько могут стоить эти чулки, когда они будут готовы?
- По крайней мере тридцать су.
- Не продадите ли вы их мне за пять франков?
- Деньги надо заплатить тотчас же! - сказала хозяйка Тенар- дье резким и решительным голосом.
- Я покупаю эти чулки. И я заплачу за них.
Хозяйка Тенардье ничего не сказала. Она кусала губы и на лице её была ненависть.
Козетта вся дрожала от волнения. Наконец она осмелилась спросить:
- Сударыня, это правда? Я могу играть?
- Играй! - сказала Тенардье грозным голосом.
- Благодарю вас, сударыня, - сказала Козетта.
И в то время, как она благодарила хозяйку, её сердечко полно было благодарности к незнакомцу.
Козетта оставила своё вязанье, но не вылезла из-под стола. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Из ящика, стоявшего за её спиной, она вытащила какое-то старое тряпьё и маленькую оловянную сабельку.
Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на то, что происходило вокруг них. Они были заняты важным делом - пеленали котёнка. Они бросили куклу на пол, и старшая, Эпонина, несмотря на мяуканье и отчаянное сопротивление котёнка, завёртывала его в какие-то красные и голубые лоскутья.
Козетта перестала играть. Она заметила на полу, в нескольких шагах от себя, куклу, которую бросили хозяйские дочки, занявшись котёнком. Нельзя было терять ни минуты. На четвереньках вылезла она из-под стола, осмотрелась, убедилась в том, что её никто не видит, быстро подползла к кукле и схватила её. Через секунду она была уже снова на своём месте. Она сидела неподвижно, но повернулась теперь так, что загородила собою куклу, которую держала в руках. Никто, кроме незнакомца, который медленно ел свой скудный ужин, не заметил этого.
Радость Козетты длилась с четверть часа.
Несмотря на все предосторожности, принятые ею, она не заметила, что одна нога куклы торчала наружу и огонь ярко освещал её. Эта розовая блестящая нога вдруг привлекла внимание Азель- мы, и она сказала:
- Посмотри, сестрица!
Девочки перестали играть и застыли от изумления. Козетта
осмелилась взять их куклу! Эпонина встала и, не выпуская из рук котёнка, подошла к матери и стала дёргать её за юбку.
- Не мешай! - сказала мать. - Ну, чего тебе?
- Мама, - сказала девочка, - посмотри! - И она указала на Козетту.
Козетта, поглощённая игрой, ничего не видела и не слышала.
Тенардье закричала голосом, охрипшим от возмущения:
- Козетта!
Козетта вздрогнула так, как будто земля заколебалась под нею. Она обернулась.
- Козетта! - повторила Тенардье.
Козетта тихо положила куклу на пол и разразилась рыданьями.
В это время незнакомец встал.
- Что случилось? - спросил он у Тенардье.
- Разве вы не видите? - сказала Тенардье, указывая пальцем на куклу, лежащую у ног Козетты.
- Ну да. Так что же? - переспросил незнакомец.
- Эта нищая осмелилась дотронуться до куклы моих девочек! - сказала Тенардье. - Она трогала её своими грязными руками, своими отвратительными руками!
Незнакомец пошёл к выходной двери, открыл её и вышел на улицу.
4
Через несколько минут дверь отворилась - незнакомец вернулся; он нёс в руках чудесную куклу, предмет зависти всех малышей деревни. Он поставил эту куклу перед Козеттой и сказал:
- Это тебе.
Козетта подняла глаза; она смотрела на приближавшегося к ней человека с куклой в руке, как смотрела бы на солнце, идущее к ней. Она слышала, как он произнёс слова: «Это тебе»; она взглянула на него, посмотрела на куклу, потом медленно отодвинулась к стене и забилась в самый дальний угол. Она не плакала больше и не кричала; казалось, она не смела даже дышать.
Хозяйка Тенардье, Эпонина и Азельма остолбенели.
Хозяйка Тенардье, безмолвная и окаменевшая, думала: «Что это за старик? Нищий или богач? Может быть, и то и другое - то есть вор». Хозяин Тенардье смотрел то на незнакомца, то на кук-
лу; казалось, он обнюхивал незнакомца, как он стал бы обнюхивать мешок с деньгами. Но всё это длилось одно мгновение.
Тенардье подошёл к жене и тихо сказал ей:
- Кукла стоит по крайней мере тридцать франков. Не делай глупостей. Ползай перед этим человеком на коленях.
Тогда хозяйка Тенардье сказала притворно-сладким голосом, обращаясь к Козетте:
- Ну, Козетта, что же ты не берёшь свою куклу?
Козетта смотрела на чудесную куклу с каким-то страхом. Её лицо всё ещё было залито слезами, но в глазах уже светилась радость. Ей казалось, что стоит только дотронуться до куклы и грянет гром.
Но искушение было слишком сильно. Она всё-таки подошла и, обращаясь к хозяйке, робко проговорила:
- Можно, сударыня?
Никакими словами нельзя описать то выражение отчаяния, страха и восторга, которое было на лице Козетты.
- Конечно! - ответила Тенардье. - Она твоя. Господин дарит её тебе.
- Правда, сударь? - спросила Козетта. - Это правда? Эта дама моя?
У незнакомца в глазах стояли слёзы. Он был, казалось, в том состоянии, когда человек боится говорить, чтобы не разрыдаться. Он молча кивнул головой Козетте и вложил руку «дамы» в её маленькую ручонку.
Козетта отдёрнула руку, как будто обожглась. Вдруг она повернулась и порывисто схватила куклу.
- Я назову её Катериной! - сказала она.
Странно было смотреть, как в эту минуту лохмотья Козетты смешались с лентами и чистым розовым нарядом куклы.
Тема раздела: Фольклорные мотивы
Илья Муромец и Соловей – Разбойник.
Скачет Илья Муромец во всю конскую прыть. Бурушка-Косматушка с горы на гору перескакивает, реки-озёра перепрыгивает, холмы перелетает.
Доскакали они до Брянских лесов, дальше Бурушке скакать нельзя: разлеглись болота зыбучие, конь по брюхо в воде тонет.
Соскочил Илья с коня. Он левой рукой Бурушку поддерживает, а правой рукой дубы с корнем рвёт, настилает через болото настилы дубовые. Тридцать вёрст Илья гати настелил, — до сих пор по ней люди добрые ездят.
Так дошел Илья до речки Смородиной.
Течёт река широкая, бурливая, с камня на камень перекатывается.
Заржал Бурушка, взвился выше тёмного леса и одним скачком перепрыгнул реку.
Сидит за рекой Соловей-разбойник на трёх дубах, на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, ни зверь не пробежит, ни гад не проползёт. Все боятся Соловья-разбойника, никому умирать не хочется. Услыхал Соловей конский скок, привстал на дубах, закричал страшным голосом:
— Что за невежа проезжает тут, мимо моих заповедных дубов? Спать не даёт Соловью-разбойнику!
Да как засвищет он по-соловьиному, зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля дрогнула, столетние дубы покачнулись, цветы осыпались, трава полегла. Бурушка-Косматушка на колени упал.
А Илья в седле сидит, не шевельнётся, русые кудри на голове не дрогнут. Взял он плётку Шелковую, ударил коня по крутым бокам:
— Травяной ты мешок, не богатырский конь! Не слыхал ты разве писку птичьего, шипу гадючьего?! Вставай на ноги, подвези меня ближе к Соловьиному гнезду, не то волкам тебя брошу на съедение!
Тут вскочил Бурушка на ноги, подскакал к Соловьиному гнезду. Удивился Соловей-разбойник, из гнезда высунулся. А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, спустил калёную стрелу, небольшую стрелу, весом в целый пуд. Взвыла тетива, полетела стрела, угодила Соловью в правый глаз, вылетела через левое ухо. Покатился Соловей из гнезда, словно овсяный сноп. Подхватил его Илья на руки, связал крепко ремнями сыромятными, подвязал к левому стремени.
Глядит Соловей на Илью, слово вымолвить боится.
— Что глядишь на меня, разбойник, или русских богатырей не видывал?
— Ох, попал я в крепкие руки, видно, не бывать мне больше на волюшке.
Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал на подворье Соловья-разбойника. У него двор на семи верстах, на семи столбах, у него вокруг железный тын, на каждой тычинке по маковке голова богатыря убитого. А на дворе стоят палаты белокаменные, как жар горят крылечки золочёные.
Увидала дочка Соловья богатырского коня, закричала на весь двор:
— Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович, везёт у стремени мужичишку-деревенщину!
Выглянула в окно жена Соловья-разбойника, руками всплеснула:
— Что ты говоришь, неразумная! Это едет мужик-деревенщина и у стремени везёт вашего батюшку — Соловья Рахмановича! Выбежала старшая дочка Соловья — Пелька — во двор, ухватила доску железную весом в девяносто пудов и метнула её в Илью Муромца. Но Илья ловок да увёртлив был, отмахнул доску богатырской рукой, полетела доска обратно, попала в Пельку, убила её до смерти.
Бросилась жена Соловья Илье в ноги: — Ты возьми у нас, богатырь, серебра, золота, бесценного жемчуга, сколько может увезти твой богатырский конь, отпусти только нашего батюшку, Соловья Рахмановича!
Говорит ей Илья в ответ:
— Мне подарков неправедных не надобно. Они добыты слезами детскими, они политы кровью русскою, нажиты нуждой крестьянскою! Как в руках разбойник — он всегда тебе друг, а отпустишь — снова с ним наплачешься. Я свезу Соловья в Киев-град, там на квас пропью, на калачи проем!
Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. Приумолк Соловей, не шелохнется.
Едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княжеским. Привязал он коня к столбику точёному, оставил с конём Соловья-разбойника, а сам пошёл в светлую горницу.
Там у князя Владимира пир идёт, за столами сидят богатыри русские. Вошёл Илья, поклонился, стал у порога:
— Здравствуй, князь Владимир с княгиней Апраксией, принимаешь ли к себе заезжего молодца?
Спрашивает его Владимир Красное Солнышко:
— Ты откуда, добрый молодец, как тебя зовут? Какого роду-племени?
— Зовут меня Ильёй. Я из-под Мурома. Крестьянский сын из села Карачарова. Ехал я из Чернигова дорогой прямоезжей. Тут как вскочит из-за стола Алёша Попович:
— Князь Владимир, ласковое наше солнышко, в глаза мужик над тобой насмехается, завирается. Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж тридцать лет сидит Соловей-разбойник, не пропускает ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала-деревенщину из дворца долой!
Не взглянул Илья на Алёшку Поповича, поклонился князю Владимиру:
— Я привёз тебе, князь. Соловья-разбойника, он на твоем дворе, у коня моего привязан. Ты не хочешь ли поглядеть на него?
Повскакали тут с мест князь с княгинею и все богатыри, поспешили за Ильёй на княжеский двор. Подбежали к Бурушке-Косматушке.
А разбойник висит у стремени, травяным мешком висит, по рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом он глядит на Киев и на князя Владимира.
Говорит ему князь Владимир:
— Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи по-звериному. Не глядит на него Соловей-разбойник, не слушает:
— Не ты меня с бою брал, не тебе мне приказывать. Просит тогда Владимир-князь Илью Муромца:
— Прикажи ты ему, Илья Иванович.
— Хорошо, только ты на меня, князь не гневайся, а закрою я тебя с княгинею полами моего кафтана крестьянского, а то как бы беды не было! А ты. Соловей Рахманович, делай, что тебе приказано!
— Не могу я свистать, у меня во рту запеклось.
— Дайте Соловью чару сладкого вина в полтора ведра, да другую пива горького, да третью мёду хмельного, закусить дайте калачом крупитчатым, тогда он засвищет, потешит нас...
Напоили Соловья, накормили; приготовился Соловей свистать.
Ты смотри. Соловей, — говорит Илья, — ты не смей свистать во весь голос, а свистни ты полусвистом, зарычи полурыком, а то будет худо тебе.
Не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, захотел он разорить Киев-град, захотел убить князя с княгиней, всех русских богатырей. Засвистел он во весь соловьиный свист, заревел во всю мочь, зашипел во весь змеиный шип.
Что тут сделалось!
Маковки на теремах покривились, крылечки от стен отвалились, стёкла в горницах полопались, разбежались кони из конюшен, все богатыри на землю упали, на четвереньках по двору расползлись. Сам князь Владимир еле живой стоит, шатается, у Ильи под кафтаном прячется.
Рассердился Илья на разбойника:
Я велел тебе князя с княгиней потешить, а ты сколько бед натворил! Ну, теперь я с тобой за всё рассчитаюсь! Полно тебе слезить отцов-матерей, полно вдовить молодушек, сиротить детей, полно разбойничать!
Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову. Тут и конец Соловью настал.
— Спасибо тебе, Илья Муромец, — говорит Владимир-князь. — Оставайся в моей дружине, будешь старшим богатырём, над другими богатырями начальником. И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне и до смерти.
И пошли они пир пировать.
Князь Владимир посадил Илью около себя, около себя против княгинюшки. Алёше Поповичу обидно стало; схватил Алёша со стола булатный нож и метнул его в Илью Муромца. На лету поймал Илья острый нож и воткнул его в дубовый стол. На Алёшу он и глазом не взглянул.
Подошёл к Илье вежливый Добрынюшка:
— Славный богатырь, Илья Иванович, будешь ты у нас в дружине старшим. Ты возьми меня и Алёшу Поповича в товарищи. Будешь ты у нас за старшего, а я и Алёша за младшеньких.
Тут Алёша распалился, на ноги вскочил:
— Ты в уме ли, Добрынюшка? Сам ты роду боярского, я из старого роду поповского, а его никто не знает, не ведает, принесло его невесть откудова, а чудит у нас в Киеве, хвастает.
Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. Подошёл он к Илье и говорит ему:
— Ты, Илья Иванович, на Алёшу не гневайся, роду он поповского хвастливого, лучше всех бранится, лучше хвастает. Тут Алёша криком закричал:
— Да что же это делается? Кого русские богатыри старшим выбрали? Деревенщину лесную неумытую!
Тут Самсон Самойлович слово вымолвил:
— Много ты шумишь, Алёшенька, и неумные речи говоришь,— деревенским людом Русь кормится. Да и не по роду-племени слава идёт, а по богатырским делам да подвигам. За дела и слава Илюшеньке!
А Алёша, как щенок, на тура гавкает:
— Много ли он славы добудет, на весёлых пирах мёды попиваючи!
Не стерпел Илья, вскочил на ноги:
— Верное слово молвил поповский сын — не годится богатырю на пиру сидеть, живот растить. Отпусти меня, князь, в широкие степи поглядеть, не рыщет ли враг по родной Руси, не залегли ли где разбойники.
И вышел Илья из гридни вон.
Бой Ер-Таргына с Домбаулом.
Слова Таргына повергли в ужас хана. Посовещался Ханзада-хан со своими биями и мурзами и сказал:
— Слезами детей и жен наших, ни в чем не повинных, молю вас, батыр. Остудите свой гнев. Под горою Булгыр я покинул вас одного, и вину свою признаю. За это в жены возьми дочь мою, и в знак примиренья дай руку!— с этими словами хан взял Таргына за руку.
Батыр смог унять свой великий гнев, и отправились они в ханскую ставку — орду. Через несколько дней спина у Таргына зажила окончательно.
Калмыки-торгауты, ставшие на путь войны, не знали о том, что Таргын вернулся к хану. Ханская дочь так и не была выдана им. Дождавшись окончания срока перемирия, калмыки сели на коней и всем своим войском под бой барабанов двинулись на ногайлинцев.
Омрачился могучий Таргын, когда увидел, что приближается вражеское войско. С хмурых бровей его падал снег, а ресницы покрылись инеем — таков был во гневе бесстрашный Таргын, разящий всякого, на кого направил копье, разрубающий всякого, на кого поднял меч, и сокрушающий любого, на кого замахнулся шокпаром Он надел на себя серый панцирь из стали ледяного тусклого блеска с лохматыми черными кистями, взял оружие, сверкающее ярче солнца. Сел Таргын на своего тулпара, что мог по болоту кулана загнать, что в полдня настигал лошадей, за шесть дней до него в путь пустившихся, что, заслышав клич боевой, устремлялся вперед как стрела-змея! Сел Таргын на тулпара, что словно грозный дракон, с хрустом страшным грыз удила, сел Таргын на коня, что преградой для себя не считал ни гору, ни реку и следы оставлял на земле, каждый — как след очага.
Словно злой демон, черным смерчем понесся Таргын к вражескому войску.
На огромном — в шесть кулашей длиною — коне возвышался, словно гора, впереди войска калмыков зайсан Домбаул. Он издали заметил Таргына, Домбаул тоже был непревзойденным в своем народе батыром. Понял он намеренья Таргына и сам выехал ему навстречу для поединка.
Сказал Домбаул, когда Таргын приблизился к нему!
— Вижу я, что храбростью ты, джигит, слегка наделен, как бы я не зашиб тебя невзначай. Резов ты, как летняя тучка, а видел ли ты, как тучки в горах об утес расшибаются? Поостерегись, а то я тебя слегка зацеплю, лучше сразу скажи — драться вышел или пришел на поклон?!
Ответил ему Таргын:
— Если ты пригорок невысокий — я вершина снежная над тобой! Если ты ветерок с перевала — я черный смерч с вершины горы! Если ты ворон, что каркает жалко,— я орел с опаленным солнцем крылом. Если хочешь знать, кто я таков,— знай — я тот самый Таргын, так недавно тебя с твоим войском прогнавший, как стадо баранов вдоль шаганских равнин. Что ж, мужчины черед —до третьего раза. Если не боишься — выходи на бой!
Сказал на это Домбаул:
— Нет, я — не ветер с перевала, а горный поток, все сметающий на пути! В прошлый раз птица счастья слетела к тебе, но сегодня она вновь возвратится ко мне! Это я десять лет назад обрушился на ногайлинцев, как лесной пожар, и изгнал их с берегов Шагана. Ты напал на мой народ, пока я отвоевывал жаикские берега для своего хунтайджи. За это падет твоя голова! Вижу я, что ты молод, а потому дай мне, как старшему, право первой стрелы,
Не был Таргын трусом, чтобы избегать боя, не стал он препираться, раз уж старший батыр попросил уступить ему первый выстрел.
Домбаул, привыкший проливать кровь людскую, сразу же потянулся к колчану и достал из многих стрел своих кровавую черную стрелу.
Натянул он тетиву на всю длину стрелы, прицелился и выстрелил в Таргына. А метил он поверх головы Тарлана, выше золотой луки седла — в самое сердце Таргына. Просвистела стрела над самой головой Тарлана, над золотой лукой седла, ударила в бок батыра над самой печенью. И прорвала стрела восемь из девяти слоев его кольчуги, и уже прорвалась было сквозь последний — девятый слой, но святой покровитель ногайлинского батыра Бнтуа-ажа-Баба заслонил тело героя своею ладонью.
Понял Таргын, какая опасность миновала его, и к силе его великой прибавились вмиг новые силы, вырвал он из кольчуги вражескую стрелу, наконечник которой от удара смялся, словно побывал в самом жарком пламени, сломал ее пополам и швырнул на землю. И проговорил Таргын — громом небесным зазвучал его голос:
— Пес кусучий с черным сердцем! День настал, когда ворот кольчуги твоей порвется! День настал, когда пестрый твой конь будет заколот на поминках твоих! Свой черед ты получил, а теперь, если хочешь, то я отпущу тебя подобру, беги же, собака! А если меня не боишься, стой на месте! Смотри, как смертную стрелу твою я пущу. Если силы меня не покинут, ты отправишься в преисподнюю!
«О, предки мои!»—обратился Таргын к духам своих дедов и запустил руку в колчан, украшенный изображением тигра, отделанный костяными пластинами. Из многих стрел он выбрал стрелу с наконечником как ягнячья лопатка, оперенную черной щетиной. Взял он лук из рогов таутеке, с тетивой, скрученной из кобыльего хво¬ста. Натянул Таргын лук до самого наконечника стрелы. Прицелился он поверх головы пегого коня, на котором сидел калмык, поверх луки седла в самое сердце. Зазвенела тетива, сверкнула стрела, словно молния,— пролетела она над головой коня, над лукой седла и ударила в самое сердце калмыка. И не спасло его зерцало—раскололось пополам, не спасла его кольчуга, порвалась как ситец. И пробила стрела навылет огромное тело Домбаула и расколола огромный — с казан — камень за его спиной.
Выронил Домбаул знамя, которое держал в руках, и, успев проговорить: «Далайлама лух!..» — рухнул на гриву своего коня.
Погрузилось в печаль все вражеское войско, увидев этот страшный выстрел, поняли воины, насколько силен Таргын. Накинули они на своих коней траурные покрывала. Трусы стали подумывать о том, как бы им побыстрее убраться с поля, а батыры опечалились, поняв, что противник сильнее...
Посовещались они и, двинувшись все разом, окружили батыра.
Понял Таргын, что оказался в кольце врагов, огляделся кругом и сказал:
— О, повелитель мой! Во многих кровавых сраженьях я побывал, но только теперь вижу — доведется испытать не на шутку мне силы свои! Не меньше шести тысяч врагов предо мною. Нет, тенгри, если мне не поможешь ты сам, мне не выбраться живым с поля этого. Аруах! Дай коню моему нескончаемых сил! Дай мне мощь неотвратимую!
И еще сказал Таргын:
— Вражье войско густое как лес окружило меня. Если смогут меня одолеть, значит, взят будет весь мой народ. Что же будет тогда? Как мне пережить тот позор? Настал день выпустить все мои стрелы, оперенные орлиными перьями, что ребра пробивают врагам. Значит, день наступил, чтобы меч обнажить в шесть карысов, что скалы рубит, как камыш, что врагов разрубает надвое. День настал, чтобы пику с древком сосновым, с острием в четыре сверкающих грани, пику с пестрым значком, что острее драконова жала, мне направить на врага! День настал для тебя, конь Тарлан, неустанно скакать против тысяч врагов. Мой тулпар, коротки и мощны твои бабки, подтянут твой пах, конь Тарлан с головой точеной, как у лани!
Так сказал Таргын и собрал всю свою мощь. Он сошел с коня, еще туже подтянул переднюю и заднюю подпруги. Опустил он панцири, что защищали голову и грудь тулпара. Нацепил ему на лоб продолговатое, с ладонь величиною, зерцало. Поправил сбрую.
Геракл освобождает Прометея.
Мифы Древней Греции
Много еще подвигов совершил Геракл, и имя его прославилось по всей Греции. Когда Язон построил быстроходный корабль "Арго" и созвал героев Греции, чтобы плыть за три моря, в Колхиду, добывать золотое руно, могучий Геракл отправился в поход вместе с отважными аргонавтами. Но по дороге, на одной из стоянок "Арго" у берега неведомой земли, Геракл ушел далеко в прибрежный лес, не вернулся вовремя на корабль, и аргонавты отплыли без него. А Геракл сухим путем отправился в глубь страны и скоро пришел в горы. Дикий и величественный край открылся перед ним. Грядою встали высокие горы, у подножия поросшие частым лесом, а на вершинах покрытые вечными снегами. Чем выше поднимался герой, тем суровее и неприступнее были горы. Наконец он взобрался на голую скалу, обрывавшуюся над морем. Вдруг Геракл услышал голос, зовущий его, и увидел прикованного к скале титана. Геракл узнал Прометея - сына Фемиды, богини справедливости, и титана Иаиета, от которого начался на земле род людской. Когда-то, в давние-давние времена, людей было мало на земле. Как звери, бродили они по лесам, гоняясь за добычей, ели сырое мясо, дикие плоды и коренья, покрывались звериными шкурами и от непогоды прятались в пещерах и дуплах деревьев. Разум у них был, как у малых детей; они были беспомощны в устройстве своей жизни и беззащитны против хищных зверей и грозных сил природы. Прометей сжалился над людьми и захотел помочь им. Он отправился к своему другу Гефесту, сыну Зевса, божественному кузнецу и мастеру. На острове Лемнос, в глубине огнедышащей горы, была мастерская Гефеста. Жарко горел в огромном горне священный огонь, без которого невозможно никакое искусство и мастерство. Три одноглазых великана - Циклопа - работали в мастерской Гефеста. Две статуи, которые он сам отлил из золота, двигались, как живые, по мастерской, и хромой бог-кузнец опирался на них при ходьбе. Прометей застал Гефеста за работой - бог-кузнец ковал огненные стрелы-молнии для Зевса Громовержца. Прометей стоял и смотрел на искусную работу Гефеста. Когда же Циклопы стали мехами раздувать огонь в горне и сверкающие искры разлетелись по всей мастерской, Прометей поймал священную искорку и спрятал в пустой тростинке, которую держал в руке. Эту тростинку с искрой священного огня Прометей принес людям, и люди зажгли от нее повсюду на земле костры, очаги и горны. Люди научились бороться с природой, добывать и обрабатывать скрытые в недрах земли медь и железо, золото и серебро и делать себе из них домашние вещи, оружие и украшения. Люди стали строить себе жилища из дерева и камня и корабли, окрыленные парусами, чтобы плавать по рекам и морям. Люди приручили диких животных и заставили коня носить на себе человека, а козу и корову-кормить его и от овцы стали брать теплую и прочную шерсть для одежды. Свет от священного огня прояснил мысли людей, пробудил их дремлющий ум, зажег в их сердцах стремление к счастью. И многому еще научил Прометей людей с помощью священного огня. Он научил их варить целебный сок растений, который помогает при болезнях и ранах, и люди избавились от постоянного страха смерти. Прометей открыл им науку чисел и научил записывать знаками слова, чтоб передавать свой мысли тем, кто живет далеко. С гордостью смотрел Прометей, как.люди становились сильнее, разумнее и искуснее во всяком труде. Но владыка мира Зевс разгневался на Прометея и решил сурово покарать похитителя священного огня. Царь богов послал своих слуг Силу и Власть схватить Прометея и отвести его на край света, в пустынную горную страну, а Гефесту приказал приковать титана к горе. Горько было Гефесту выполнять это - ведь Прометей был ему другом, но такова была воля Зевса. В железные кольца заковал Гефест руки и ноги Прометея, неразрывной цепью приковал его к каменной громаде, острым алмазным клином пробил ему грудь, пригвоздив его к скале. И повелел Зевс, чтобы навсегда, на веки веков, остался Прометей прикованным к этой скале. Прошли века. Многое изменилось на земле. Но не прекращались муки Прометея. Солнце жгло его иссохшее тело, ледяной ветер осыпал его колючим снегом. Каждый день в назначенный час прилетал огромный орел, разрывал когтями тело титана и клевал его печень. А ночью раны заживали вновь. Но недаром он носил имя "Прометей", что значит "предвидящий": он знал, что настанет время, и среди людей на земле явится великий герой, который совершит много подвигов, чтобы очистить землю от зла, и придет освободить его. И вот наконец Прометей услышал шаги идущего по горам человека и увидел героя, которого ждал все время. Геракл приблизился к скованному Прометею и уже поднял меч, чтобы сбить оковы с титана, но высоко в небе раздался орлиный крик: это Прометеев орел в урочный час спешил на свой кровавый пир. Тогда Геракл схватил свой лук, метнул стрелу в летящего орла и убил его. Мертвый орел упал с высоты в море под скалою, и волны унесли его. Геракл разбил цепь, сковывавшую Прометея, и вынул из его груди алмазное острие, которым он был прибит к скале. И освобожденный Прометей распрямился, вздохнул всей грудью и просветленными глазами смотрел на землю и на героя, принесшего ему свободу и мир с богами. Зевс приказал Гефесту сделать кольцо из звена Прометеевой цепи и вставить в него камень - осколок скалы, к которой был прикован титан. Это кольцо Зевс велел Прометею надеть на палец и всегда носить его в знак того, что не нарушено слово владыки мира и навеки Прометей прикован к скале.
А.С. Пушкин
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
"Кабы я была царица, -
Говорит одна девица, -
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир".
"Кабы я была царица, -
Говорит ее сестрица, -
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна".
"Кабы я была царица, -
Третья молвила сестрица, -
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря".
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
"Здравствуй, красная девица, -
Говорит он, - будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха".
В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.
В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далеко
Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребенком
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
"Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку".
Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
"Ждать царева возвращенья
Для законного решенья".
Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую -
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
"Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод".
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю -
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян -
Так велел-де царь Салтан.
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел, царица вопит...
А дитя волну торопит:
"Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли -
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!"
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
"Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?" - молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.
К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон...
Видно на море не тихо;
Смотрит - видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет...
Тот уж когти распустил,
Клев кровавый навострил...
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела -
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит -
И царевичу потом
Молвит русским языком:
"Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе - все не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдешь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись".
Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились на тощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. "То ли будет? -
Говорит он, - вижу я:
Лебедь тешится моя".
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.
Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
"Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана..."
Князь им вымолвил тогда:
"Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон".
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь - поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
"Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?" -
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
"Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца".
Лебедь князю: "Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром".
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль - и в щель забился.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
"Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон".
Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: "Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу".
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
"Уж диковинка, ну право, -
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, -
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра - чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут".
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится -
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
"Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!.." А он в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.
Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь - поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
"Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?" -
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
"Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка -
Белка песенки поет,
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра - чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут".
Князю лебедь отвечает:
"Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу".
С ободренною душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкий -
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
"Ну, спасибо, - молвил он, -
Ай да лебедь - дай ей боже,
Что и мне, веселье то же".
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
"Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Все донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок -
И лежит нам путь далек:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана..."
Говорит им князь тогда:
"Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлет царю-де свой поклон".
Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь - а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит...
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль - и в щель залез.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана -
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
"Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо,
И какое в свете чудо?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет,
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра - чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной -
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон".
Царь Салтан дивится чуду.
"Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу".
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
"Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызет,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!"
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится...
Зажужжал он и как раз
Тетке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
"Ай!" и тут же окривела;
Все кричат: "Лови, лови,
Да дави ее, дави...
Вот ужо! постой немножко,
Погоди..." А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.
Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь - поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
"Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?" -
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
"Грусть-тоска меня съедает -
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел".
"А какое ж это диво?"
- Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Князю лебедь отвечает:
"Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай".
Князь пошел, забывши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
"Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли".
Все потом домой ушли.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
"Чем вы, гости, торг ведете?
И куда теперь плывете?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далек,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана".
Говорит им князь тогда:
"Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлет-де свой царю поклон".
Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит...
Так и тянет и уносит...
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму - и в щель забился.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят -
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
"Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге -
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить -
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон".
Царь Салтан дивится чуду.
"Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу".
Повариха и ткачиха
Ни гугу - но Бабариха
Усмехнувшись говорит:
"Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают, или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво".
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится -
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится -
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
"Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!.." А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.
Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь - поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
"Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?" -
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
"Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Неженат лишь я хожу".
- А кого же на примете
Ты имеешь? - "Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает -
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?"
Князь со страхом ждет ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
"Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь,
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом -
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом".
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всем
Передумал он путем;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: "Зачем далеко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта - я".
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушки своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
"Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви".
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
"Бог вас, дети, наградит".
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
"Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далек:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана".
Князь им вымолвил тогда:
"Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному дарю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался -
Шлю ему я свой поклон".
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
"Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поет
Да орешки все грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра - чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор -
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался".
Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
"Что я? царь или дитя? -
Говорит он не шутя: -
Нынче ж еду!" - Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.
Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
"Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда".
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идет Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повел царя,
Ничего не говоря.
Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под елкою высокой
Белка песенку поет,
Золотой орех грызет,
Изумрудец вынимает
И в мешечек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале - торопливо
Смотрят - что ж? княгиня - диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведет.
Царь глядит - и узнает...
В нем взыграло ретивое!
"Что я вижу? что такое?
Как!" - и дух в нем занялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И веселый пир пошел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
День прошел - царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил -
И усы лишь обмочил.
Внеклассное чтение.
М. Бородицкая. Колдунье не колдуется.
Сидит колдунья, дуется
На целый белый свет:
Колдунье не колдуется
И вдохновенья нет.
Наколдовала к завтраку
Из Африки банан,
А появился - здрасьте вам!
Из Арктики буран.
Наколдовала к ужину
В стаканчике пломбир,
Но убедилась с ужасом:
В стаканчике - кефир!
Ну что за невезение,
Ну что за наказание -
Не радует ни пение,
Ни даже рисование:
Нарисовала курицу,
А вышел пистолет...
Сидит колдунья, дуется
На целый белый свет.
А может быть, кто дуется -
Тому и не колдуется?
Внеклассное чтение.
Б. Заходер. Моя Вообразилия
В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии
Болтают с вами запросто
Настурции и Лилии;
Умеют Львы косматые
Скакать верхом на палочке,
А мраморные статуи
Сыграют с вами в салочки!
Ура, Вообразилия,
Моя Вообразилия!
У всех, кому захочется,
Там вырастают крылья;
И каждый обязательно
Становится кудесником,
Будь он твоим ровесником
Или моим ровесником!..
В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии -
Там царствует фантазия
Во всем своем всесилии;
Там все мечты сбываются,
А наши огорчения
Сейчас же превращаются
В смешные приключения!
В мою Вообразилию
Попасть совсем несложно:
Она ведь исключительно
Удобно расположена!
И только тот, кто начисто
Лишен воображения, -
Увы, не знает, как войти
В ее расположение!..
Мним
Далеко,
Возле самой границы
Лукоморья; Чудесной страны,
В том краю,
Где живут Чуженицы,
Где пасутся в горах Рапуны,
Где в волнах темно-синего меха
Помирает от смеха Себеха,
В том краю,
Где встречается Бука
(Правда, если вы спросите: с кем? -
Ничего не ответит наука,
Не помогут ни Гржимек, ни Брем),
В том краю, где на каждой дорожке
Попадаются ножки да рожки,
Где Грифон ходит в гости к Химере,
Где живут очень редкие звери,
В высшей степени редкие звери,
Исключительно редкие звери
И совсем небывалые звери,
Там и водится чудо природы -
Тихий зверь по прозванию Мним.
Сам Мюнхаузен, долгие годы
Посвятивший погоне за ним,
Услыхав это имя, немеет,
Ничего сообщить не имеет,
И скорее всего потому,
Что похвастаться нечем ему...
Еще про Мнима
Называя Мнима
Скромным зверем,
Мы не очень сами в это верим:
Кто такой на самом деле Мним,
Неизвестно даже нам самим!
Потому что Мним
Ужасно скромен.
Мал он ростом?
Или он огромен?
Как он выглядит?
Что ест?
Что пьет?
Что поет он (если он поет)?
Зверь он?
Птица?
Может быть, лягушка?
Может, он
Неведома зверушка?
Нет числа вопросам!
А ответ?
А ответ такой:
- Ответа нет.
Все счастливцы,
Встретившие Мнима,
Безучастно
Пробегали мимо...
Потому что, повторяю,
Мним
Чрезвычайно
Скромен (и раним).
Он бы очень огорчился,
Дети,
Если бы прочел стихи
(Вот эти!).
Кавот и Камут
Мне с постели вставать неохота:
Я боюсь наступить на Кавота, -
У меня под кроватью живет
Симпатичнейший в мире Кавот.
. . . . . . . . . . . . . . . .
И еще с ним такая забота:
Накормить невозможно Кавота,
Так как каждый кусок почему-то
Попадает в желудок Камута.
Рапуны
Под собой не чуя ног,
Скачет резвый Рапунок.
А большие Рапуны
Тихо спят и видят сны.
Приятная встреча
Встретились Бяка и Бука.
Никто не издал ни звука.
Никто не подал и знака -
Молчали Бука и Бяка.
И Бука
Думал со скукой:
"Чего он так смотрит - букой?"
А Бяка думал:
"Однако
Какой он ужасный
Бяка..."
Тема раздела: Мы и природа
Ю. Бондарев. Поздним вечером.
Тонко дребезжат стекла. Сквозь шум бурана слышно, как на дворе глухо хлопает калитка. Коля, весь напрягаясь, останавливает взгляд на окне, потом негромко говорит:
- Показалось... Я думал, мама, а это ветер. Ты, Миша, слышал, как загремело?
- Непогода какая... - Миша, послюнив палец, не сразу перелистывает страницу, с сосредоточенным видом наклоняется над книгой и прерывисто вздыхает: - Прямо не дождешься. Колина мать работает врачом в степном районе, недалеко от города Актюбинска; каждое утро за ней приезжают сани из больницы, и дед Степан увозит ее до восьми часов вечера. Сейчас уже десять, но ее все нет. А буран хлещет в стели, гремит по крыше, дико взвизгивает в трубе, дергает дверь в сенях, будто кто-то в злобе ударяет, наваливается плечом, срывает ее и не может сорвать с петель. На улице все гудит, и порой кажется, что комната несется по воздуху, в вихрях снега, оторванная от всего мира. Мальчики сидят на диване и то и дело поглядывают на стенные часы. Миша хмурится и, стараясь не сопеть, уже второй раз осторожно листает книгу про зверей
Африки. Он давно торопится домой, так как отпросился к Коле "только на минуту", но ему и боязно, и неудобно уходить, хотя живет он рядом -через несколько домов. А часы на стене неустанно и сонно тикают. Изредка в них что-то обрывается. Тогда гиря дергается, и мальчики вздрагивают. В комнате
полутемно. Возле дивана на столе горит большая керосиновая лампа: два дня нет электричества - буран порвал провода. Радио тоже молчит. Два дня в степи, не утихая, ревет непогода. Она царапает стены, стучит в стекла кидает в них непроглядным снегом, все наваливая и наваливая под окнами сугробы.
- Буран! - говорит Миша, поднимая голову от книги. - Ишь как воет...
Страшно сейчас в степи. Коля внимательно смотрит на Мишу, с минуту слушает, как воет буран, и
вдруг начинает беспокоиться:
- Как бы мамка не заблудилась...
- А ты знаешь, в позапрошлую зиму тракторист окоченел до смерти, заблудился... а в прошлую отец чуть совсем не замерз, - почему-то шепотом говорит Миша и делает такое лицо, точно сообщает по секрету о необыкновенной тайне. Коля уже слышал эту историю несколько раз, но ему хочется заново
послушать.
- Как же это? - удивленно спрашивает он и подвигается ближе к Мише. - Сказки бабушкины. Но глаза у Миши очень серьезные.
- Не сказки, а очень просто. Поехал отец в бригаду: что-то с тракторами случилось. Темнища - жуть! Хуже, чем сейчас. Буран так и метет, так и метет... Знаешь, как в степи? Я ездил раз в МТС, так знаю... А отец ехал, ехал - и вдруг дороги нет, заблудился. Мы его ждали, ждали целую ночь. Мать говорит: "Ну, пропал отец!" И вдруг слышим - лошадь пришла. Выбежали мы, а отец весь в снегу, прямо и лица не видно! Мамка чуть не плачет, а он говорит: "На войне не погиб, а здесь чуть..." Ноги, руки снегом оттирал -
белые все были...Опять хлопает калитка, гремит в трубе, в сенях, позванивают стекла, и мальчикам кажется, что кто-то огромный колотит озлобленно по стенам, топчется в тяжелых валенках под окном, и давит на стекла, и стонет от нетерпения. И от этого хаоса звуков уши наполняются протяжным, тонким звоном.
- Ветер, - выдыхает Коля. - Это ветер...Миша тихонько смеется:
- Конечно, ветер! Давай книжку смотреть! Ты садись рядом, а?..Подумав, Коля садится вплотную к Мише, а тот сопит, с какой-то опаской перелистывает страницы и украдкой из-за плеча оглядывается на черные окна.
Коля, тоже озираясь на темные углы, поеживаясь, спрашивает негромко:
- Ты почему так смотришь? Мерещится тебе?
- Не-ет, что ты! Вот выдумал, - шепчет Миша, нагнув голову.В тишине листы книги, толстые, гладкие, гремят, как полотно на ветру. Минуту оба молчат. Потом Миша напряженно морщит лоб и, глотая слюну,
говорит:
- Как я домой теперь пойду? Мать, наверное, ищет...
- Знаешь, давай чай пить, - предлагает Коля с надеждой. - Чайник поставлю, у нас конфеты шоколадные есть. "Белка" называются". Хочешь, Миша?
- Да мне идти нужно. Я уроки еще не делал. А то завтра по арифметике Марья Сергеевна ка-ак вызовет да ка-ак двойку поставит!..
- Ну и иди. - Коля презрительно усмехается. - Боишься, достанется дома? А в школе хвастался, что тебя никогда не ругают! Врешь все! Миша сдвигает рыжеватые брови. Он колеблется.
- Давай... подождем еще, - нерешительно соглашается он и снова украдкой
косится на окна. Коле сразу становится веселее. Ему хочется рассказать сейчас то, о чем
он давно думал, и он заговорщицки говорит:
- Ты знаешь... Вот если бы война... ты как, пошел бы в разведчики?
- Не возьмут, - вяло отвечает Миша. - Не доросли, скажут. - Он откладывает книгу и, некоторое время соображая, деловито насупливается. -Может, взяли бы, только мать вот...- Ерунда какая! - возражает Коля. - А если бы наша страна воевала с фашистами? Нет, меня бы мать отпустила. Как отца. - Коля пристально смотрит на стену, где в черной рамке висит портрет. - У меня отец был
артиллерист. Он дрался с "тиграми", танки были такие у немцев. Отца ранило, а он все стрелял... Пять танков подбил...
- У меня отец тоже, - кивает Миша, ссутуливаясь. - Ничего не боится.
- А ты боишься? - подозрительно спрашивает Коля.
- Нет... Что ты! А вот только отец мой ничего не боится, твоя мать тоже. Видишь, какой буран, света не видать, а она поехала.
- Она вся в отца, - серьезно заявляет Коля. - Отец сам говорил...
- Коль, а Коль, - немного подумав, очень тихо спрашивает Миша, - а ты в отца? Коля переводит взгляд на окно, за которым с воем мелькают мутные тени, и опускает глаза.
- Я не знаю, - отвечает он, видимо опечаленный. - Отец ничего обо мне не говорил.
- А автоматы дали бы? - неожиданно спрашивает Миша. - Автоматы нужны, а то убьют!
Коля задумывается, затем машет рукой.
- А как же! Я знаешь о чем - Ведь я, наверно, не испугался бы. Пошли бы вместе с тобой. И выручали бы друг друга в бою.
- Да, - соглашается Миша, - одному плохо. Двоим лучше. Помочь можно друг другу.
Минуты три оба молчат. Коля берет со стола и долго рассматривает перочинный ножик с перламутровой ручкой, говорит грустно:
- Отец подарил. Это его ножик, до фронта. На память. Хороший?
- Ага. Только не острый, - хозяйственно замечает Миша, попробовав лезвие пальцем. - И легкий. Пушинка. - Я его берегу.
- Стой, ходит кто-то. По чердаку ходит, слышь?.. Шаги, - шепчет Миша, вслушиваясь. - Вроде разговаривают там, слышь? Нет?.. Он с побледневшим лицом озирается на Колю, изо всех сил удерживая
дыхание, широкие ноздри его раздуваются.
- Никого там... буран это, - отвечает Коля с трудом равнодушно. -Мерещится тебе... Миша мигает ресницами и слабо шевелит дрожащими губами:
- Мне мамку жалко. Она, должно, по поселку бегает, меня ищет. Ведь я из школы домой забежал - и прямо к тебе. А я ничего не боюсь. Мне домой надо... - И Миша виновато ерзает, избегая встретиться с Колей взглядом. - Знаешь, - говорит Коля и даже встает с дивана. - Ты иди домой. Иди, Мишка, чего уж... Я останусь. Миша, округливая рыжие брови, испуганно смотрит на Колю, но тот быстро отворачивается, повторяет с насмешкой: - Иди, иди, я обижаться не стану, а то еще дома достанется, отколотят еще.
- Да надо ведь мне...
Однако Миша не сразу решается уходить. Ему неудобно и неловко: как же оставить товарища одного? Наконец он уходит, надев пальто, для смелости нахлобучив на глаза шапку, убегает в темь и буран. Коля закрывает за ним дверь и, вернувшись в комнату, некоторое время чувствует странное
возбуждение."Пусть, пусть! - мстительно думает Коля. - Я и один ждать буду..." Но в комнате после ухода Миши становится очень пусто и тихо. И возбуждение быстро проходит. Коля садится к столу в одиночестве и, чтобы отогнать от себя грустные мысли, старается представить себе, как будет,
когда приедет мать... Она, скинув завьюженный тулуп, улыбнется ему, поцелует его холодными губами и, конечно, скажет: "Заждался? Ну, Колька, сейчас будем чаевничать!" Щуря близорукие глаза, она подолгу моет руки и тщательно вытирает их полотенцем; от нее приятно пахнет морозом и каким-то
лекарством. Она будет ходить по комнате, звенеть посудой, спрашивать о школе и наконец сядет с ним за стол. Весело на плите зафыркает чайник, и тотчас в комнате станет тепло и уютно.
"Мама, я тебя все ждал, - скажет он, - два раза чайник подогревал, а ты так долго..."
Коля вздрагивает: ему кажется, что он уснул и во сне сидит на краешке стула; а веки у него тяжелые-тяжелые и необоримо смыкаются сами. На столе сонным круглым бликом светится бок большого металлического чайника. Посреди скатерти, придавленный чашкой, белеет листок бумаги: "Ужинай, ложись спать. Не жди меня. Мама". И от этих слов, написанных, как всегда, рукой матери, горько и тоскливо сосет под ложечкой, словно кто-то беспощадно хочет обмануть его. Потом он представляет, как мать едет в санях. Лошадь едва плетется вся в снегу, и морда ее, заиндевевшая и белая, окутываясь паром, кланяется сугробам. Мать не видно в санях: она укрылась шубой и спит. Потом она просыпается, выглядывает из-под шубы и говорит лошади: "Смотри, какой буран! Ты не спи! Не занесло бы нас! Ведь Колька один дома!" Возница дед Степан погоняет усталую лошадь. Но она уже не хочет идти дальше. И снег постепенно заносит сани, лошадь, наметая огромный сугроб...Что-то страшно гремит и рассыпается стеклянным звоном. Коля вскакивает, широко раскрыв глаза.
- Что это? Мама!..
На полу разбитая чашка. Осколки рассыпались возле ножки стола и странно-спокойно поблескивают на свету. Рядом лежит записка матери. За окном безмолвно - вероятно, буран стих. И четко и громко отстукивают, скрипят ходики на стене. Ему сейчас не жалко чашку. Он лишь жалеет об одном: зачем отпустил Мишку, вдвоем веселее. И Коле сейчас так невыносимо одиноко, неспокойно, что хочется плакать.
Он идет к дивану. Тихо скрипят под ногами половицы, и подрагивает стол, как живой. Лампа мерцает и вспыхивает: нет керосина. По потолку, по стенам от этого мерцающего света, округляя углы, бродят тени. Коля наклоняется к лампе, глазам становится горячо, лбу жарко. Он выворачивает побольше
фитиль и вдруг вытягивает шею и, не отрывая глаз, смотрит на окно. В безмолвии размеренно скрипит снег: скрип-скрип. Кто-то ходит под окнами, но никто не стучит в стекла, и Коля чувствует ознобные мурашки на спине. "Скрип-скрип, - выговаривает под окном снег, - скрип-скрип"."Кто это?" - думает Коля, цепенея от страха. Ему хочется с закрытыми глазами броситься на диван, потушить лампу, залезть с головой под одеяло, чтобы ничего не слышать и ничего не видеть. Проходит несколько минут. Он слышит, как молотком колотится сердце, отдаваясь в голове.
- Никого там нет... - шепчет, убеждая самого себя Коля. - Чудится мне... Он осторожно оглядывает комнату и замечает на столе перочинный ножик с перламутровой ручкой. Затаив дыхание, Коля берет ножик; успокоительно-аккуратный, гладкий, он умещается в кулаке. Пальцы все
крепче сжимают его, подарок отца, эту единственную защиту и помощь. А огонь в лампе дергается, сникает и, чадя, гаснет. Комната погружается во мрак, среди которого синеющими проемами светятся от лунного света мерзлые окна. За ними - непонятная пустота ночи, где только что поскрипывал снег, необъяснимо сковывает Колю знобящим страхом. Он не может пошевелиться. "Нет, нет, - опять убеждает он себя. - Я не испугался... Показалось мне, и все".На ватных ногах он с усилием делает два шага к окну и, всхлипывая от ожидания чего-то страшного, трет пальцем холодное, обросшее инеем стекло.
Блестят освещенные луной морозные узоры. Они кажутся необыкновенным зимним лесом. Коля ничего не может рассмотреть сквозь них. Тогда, замирая, с млеющим холодком в животе, он идет в сени и там настежь открывает двери, готовый крикнуть: "Кто?" Никого нет. Мороз и синяя ночь. На дворе лежит
лунный снег. Улицы не видно: снегу намело по крыши. Стоя в дверях, Коля весь дрожит от студеного воздуха. На улице ни огонька. "Где же мамка? -думает с тревогой Коля. - Где она?"
Он закрывает дверь, входит в комнату, садится на диван, опять дремота постепенно обволакивает его. И внезапно стекло звонко дребезжит над самым ухом, но Коле кажется, что это стучат не в окно, а звенит у него в ушах.- Коля, открой! Коля!
Радость перехватывает дыхание. Он вскакивает.
- Мамка! Приехала! Я сейчас! Я сейчас! - громко кричит он и бежит к двери и теперь лишь замечает зажатый в руке отцовский перочинный ножик.
...Когда они сидят за столом и пьют крепкий, пахучий чай, Коля необыкновенно счастлив: мать рядом с ним, она моет руки, вытирает их полотенцем, ласково щурит глаза. Лицо у нее усталое. Она спрашивает удивленно: - Ты все ждал меня? И не спал?
- Ждал. Мишка у меня был! Мы вдвоем ждали! А я чашку разбил.
- Колька ты мой, Колька, - говорит мать и нежно шевелит, треплет его волосы. - А я с операции. Никак не могла раньше. Коля хочет сказать матери о своем решении никогда больше не оставаться
одному дома, но видит: мать задумчиво разглядывает стол, и у нее медленно клонится голова. Она встряхивает головой и виновато улыбается.
- Ложись, мам, ложись, - чувствуя необыкновенный прилив любви к матери, говорит Коля. - Ты устала! Ты ведь устала, мама! Да? Мать целует его и, на ходу раздеваясь, идет к постели.
- А я подъезжаю и думаю: "Спит мой Колька, наверное". А ты, оказывается, ждал! Ах ты, Колька мой! Один, все время один. - И она как-то растерянно оборачивается к нему. - Ну, ложись, сын, а то завтра рано вставать. Давай радио включим, чтобы разбудило...
Мать, по-видимому, так сильно устала, что даже забыла: буран порвал провода, и радио молчит.
Он ничего не говорит ей, соскакивает со стула и берет с тумбочки старый будильник, внутри которого старательно бьется сердце. Высунув от напряжения язык, Коля ставит стрелку на шесть часов, потом оглядывается на мать и чуть-чуть переводит стрелку - на десять минут седьмого.
- Мама, пожалуйста, ложись, - повторяет Коля и быстро начинает убирать со стола. - Я тоже сейчас лягу. И знаешь... Это ничего: будем живы, не умрем, - добавляет он так же, как говорил когда-то матери отец.
Мать сразу засыпает, и Коля слышит, как во сне она разговаривает с какой-то старшей сестрой, наверно, тяжелая была операция... Коля также ложится и, прислушиваясь к неспокойному дыханию матери, сквозь сон усмехается, вспомнив ножик с перламутровой ручкой.
- Мам, а мам, - еле шепчет он. - Ты обо мне не беспокойся... Как ты
думаешь, я в отца?
В комнате темно и тихо.
В.Ф. Одоевский. "Мороз Иванович"
В одном доме жили две девочки Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила.
А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась, уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: "Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки", а потом заговорит: "Нянюшка, нет ли булочки?" Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать; сколько прилетело да сколько улетело; Как всех пересчитает Ленивица, так ужи не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку да спать не хочется; ей бы покушать да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать да и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.
Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и вечер день прошел.
Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная Рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье; а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:
- Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведерко утопила, сама и доставай.
Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:
- Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет!
Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.
Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:
- Мы, яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.
Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.
Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой от волос иней сыплется, духом дохнет - валит густой пар.
- А! сказал он. Здорово, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж я ничего горяченького не ел.
Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.
Знаю я, зачем ты пришла, говорит Мороз Иванович, ты ведерко в мой студенец (колодец) опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, прибавил Мороз Иванович, мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.
Рукодельница послушалась... Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделал был весь изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками; солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как брильянты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут: и холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего работают бедные люди.
Ничего, сказал Мороз Иванович, только снегом пальцы потри, так и отойдут, не ознобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.
Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки.
- Вот ты говоришь, сказала она, что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь?
- Не выпускаю потому, что еще не время, еще трава в силу не вошла Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла, и кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежною периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно крестьянин соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.
- Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, сказала Рукодельница, зачем ты в колодце-то сидишь?
- Я затем в колодце сижу, что весна подходит, сказал Мороз Иванович. Мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета.
- А зачем ты, Мороз Иванович, спросила Рукодельница, зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься?
- А я затем в окошки стучусь, отвечал Мороз Иванович, чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а от того в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.
Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель.
Рукодельница меж тем всё в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала.
Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.
Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня.
На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:
- Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и яу тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да, сверх того, вот тебе на память брильянтик косыночку закалывать.
Рукодельница поблагодарила, приколола брильянтик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий.
Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал:
Кукареку, кукареку! У Рукодельницы в ведерке пятаки!
Когда Рукодельница пришла домой и рассказала всё, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:
- Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.
Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось и брильянтовую булавочку тоже. Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да бух прямо ко дну. Смотрит перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:
- Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет.
А Ленивица ему в ответ:
- Да, как бы не так! Мне себя утомлять лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.
Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:
- Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.
- Да, как бы не так! отвечала Ленивица. Мне себя утомлять ручки подымать, за сучья тянуть... Успею набрать, как сами нападают!
И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.
- Что тебе надобно, девочка? спросил он.
- Пришла я к тебе, отвечала Ленивица, послужить да за работу получить.
- Дельно ты сказала, девочка, отвечал старик, за работу деньги следует, только посмотрим, какова еще твоя работа будет! Поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повычини, да белье повыштопай.
Пошла Ленивица, а дорогой думает: "Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на не взбитой перине уснет".
Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило; да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас всё по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как всё было, мытое- не мытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да еще кваску подлила, а сама думает: "Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет".
Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.
- Хорошо ты готовишь, заметил он, улыбаясь. Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.
После обеда старик опять лег отдохнуть да припомнил Ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано.
Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и белье разбирать; да и тут беда: платье и белье Ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал, да еще спать ее уложил. А Ленивице то и любо; думает себе: "Авось итак пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром, пятачков подарит".
На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.
- Да какая же была твоя работа? спросил старичок. Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.
- Да, как же! отвечала Ленивица. Я ведь у тебя целых три дня жила.
- Знаешь, голубушка, отвечал старичок, что я тебе скажу: жить и служить разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.
С этими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку пребольшой брильянт. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается.
- Вот, говорит, что я заработала; не сестре чета, не горсточку пятачков да не маленький брильянтик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжелый, да и брильянт-то чуть не с кулак... Уж на это можно к празднику обнову купить...
Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; он был не что иное как ртуть, которая застыла от сильного холода; в тоже время начал таять и брильянт. А петух вскочил на забор и громко закричал:
Кукареку-кукареку Улька,
У Ленивицы в руках ледяная сосулька!
А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленье...
Ю. Мориц. Настоящий секрет.
Наряжена елка, вздыхает пирог,
Звонок заиграл, и подпрыгнул щенок,
Я дернул замок — и к порогу прирос!
Я пикнуть словечко не мог, я молчал
И что-то невнятное в двери мычал:
Еще бы! Явился живой Дед Мороз!
Я деда целую! И вдруг замечаю,
Что много чудесного есть в старике:
Во-первых, зачем-то старик — в парике,
И нос, во-вторых, у него — из картонки,
А в-третьих, кусачий и дерзкий щенок
У ног старика добродушно прилег,
Что странно весьма для такой собачонки!
Я вижу на валенке Деда Мороза
Заплату, которую бабушка Роза
Вчера нашивала на валенок брату.
Ура! — закричать и подпрыгнуть пора,
Я знаю всю правду, поскольку вчера
Я отдал свой тапок на эту заплату!
Но весело-весело мне и чудесно,
Поэтому тайну ломать неуместно!
Подарок я сделаю старшему брату:
Ни слова — про нос, про парик и заплату,
Его не узнаю теперь нипочем!
Его принимают за Деда Мороза
И папа, и мама, и бабушка Роза,
И каждый мальчишка, на санках скользящий,
И дворник с лопатой, в сугробе стоящий,
И каждый, кто видит от снега блестящий
Вишневый мешок у него за плечом!
Он мне подарил телескоп настоящий,
Потом наступил Новый год настоящий,
А значит, он был Дед Мороз настоящий,
И то, что он — старший мой брат настоящий,
Так это — мой первый секрет настоящий!
А. Башлачев. Рождественская
Крутит ветер фонари
на реке Фонтанке.
Спите, дети... До зари
с вами - добрый ангел.
Начинает колдовство
домовой-проказник.
Завтра будет Рождество,
Завтра будет праздник.
Ляжет ласковый снежок
на дыру-прореху.
То-то будет хорошо,
То-то будет смеху.
Каждый что-нибудь найдет
в варежках и в шапке.
А соседский Васька-кот
спрячет цап-царапки.
Звон-фольга, как серебро.
Розовые банты.
Прочь бумагу! Прочь перо!
Скучные диктанты.
Замелькают в зеркалах
платья-паутинки.
Любит добрая игла
добрые пластинки.
Будем весело делить
дольки мандарина.
Будет радостно кружить
елка-балерина.
Полетят из-под руки
клавиши рояля.
И запляшут пузырьки
в мамином бокале.
То-то будет хорошо!
Смеху будет много.
Спите, дети. Я пошел.
Скатертью тревога...
Ф. И. Тютчев . «Чародейкою зимою»
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован, —
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
О. Высотская . Пришла зима с морозами
Пришла зима с морозами,
С морозами, с метелями.
Сугробы под берёзами,
Белым-бело под елями.
На вязах под околицей
Убор из белых бус.
А воздух жжёт, и колется,
И пахнет, как арбуз.
Пришла зима бодрящая,
Звенящая, хрустящая,
Со школьными задачами
И печками горячими.
Мы любим дни морозные,
Катка упругий лёд,
Ночное небо звёздное
И шумный Новый год!
Пришла зима с хлопушками,
С конфетами, игрушками
И праздничными, колкими,
Наряженными ёлками.
Зима весёлой маскою
Заходит к нам в дома.
Волшебной, доброй сказкою
Нам кажется зима!
К. Ибряев. Приглашаю в лес на елку.
Я весь день бродил в лесу,
Думал: «Елку принесу».
Протоптал я сто дорожек,
Исходил я весь лесок.
Много елочек хороших,
А вот выбрать я не смог.
Все под снегом прячут ветви,
Словно кутаются в шаль.
Все наряды в ярком свете,
Но… рубит любую жаль.
Елки все как на подбор,
Но… застыл в руках топор.
Как же быть? Кто даст ответ –
Брать мне елку или нет?
Зашумел тут буйный ветер,
Тучу снега поднял вдруг:
«Нужно здесь вам праздник
встретить –
Сотни елок встанут в круг…».
Я весь день бродил в лесу,
Думал: «Елку принесу».
А принес вот эти вести,
И кричал «ура» весь класс…
Приходите с нами вместе
В лес на елку – просим вас!
Внеклассное чтение.
Г. Гейне
В белый сад выходишь утром…
В белый сад выходишь утром –
Свищет ветер над землёю,
Смотришь, как несутся тучи,
Облекая небо мглою.
И луга, и рощи голы,
И кругом зима седая,
И в тебе зима, и сердце
Цепенеет, замерзая.
Вдруг ты весь обсыпан белым,
Точно хлопьями метели.
Озираешься сердито:
На деревьях снег в апреле!
Но не снег ты белый видишь, -
О, как сладко сердцу стало!
То тебя весенним цветом
Забросало, закидало.
И повсюду – что за чудо! –
Снег цветет весенней новью,
Юный май сменяет зиму,
И душа горит любовью.
Внеклассное чтение.
Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы»
1
В августе, около Малых Вежей,
С старым Мазаем я бил дупелей.
Как-то особенно тихо вдруг стало,
На небе солнце сквозь тучу играло.
Тучка была небольшая на нем,
А разразилась жестоким дождем!
Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзались струи дождевые
С силой стремительной... Я и Мазай,
Мокрые, скрылись в какой-то сарай.
Дети, я вам расскажу про Мазая.
Каждое лето домой приезжая,
Я по недели гощу у него.
Нравится мне деревенька его:
Летом ее убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво,
Вся она тонет в зеленых садах;
Домики в ней на высоких столбах
(Всю эту местность вода понимает,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция). Старый Мазай
Любит до страсти свой низменный край.
Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
Торной дорогой ходить ему - скука!
За сорок верст в Кострому прямиком
Сбегать лесами ему нипочем:
"Лес не дорога: по птице, по зверю
Выпалить можно". - "А леший?" - "Не верю!
Раз в кураже я их звал-поджидал
Целую ночь, - никого не видал!
За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину;
Вечером пеночка нежно поет,
Словно как в бочку пустую удод
Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точены, рисованы очи.
Ночью... ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам.
Тихо как в церкви, когда отслужили
Службу и накрепко дверь затворили,
Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит..."
Дня не проводит Мазай без охоты.
Жил бы он славно, не знал бы заботы,
Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять.
Впрочем, в отчаянье он не приходит:
Выпалит дедушка, - заяц уходит,
Дедушка пальцем косому грозит:
"Врешь - упадешь!" - добродушно кричит.
Знает он много рассказов забавных
Про деревенских охотников славных:
Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом - тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит - и грянет!
Ходит с ружьишком другой зверолов,
Носит с собою горшок угольков.
"Что ты таскаешь горшок с угольками?"
- "Больно, родимый, я зябок руками;
Ежели зайца теперь сослежу,
Прежде я сяду, ружье положу,
Над уголечками руки погрею,
Да уж потом и палю по злодею!"
"Вот так охотник!" - Мазай прибавлял.
Я, признаюсь, от души хохотал.
Впрочем, милей анекдотов крестьянских
(Чем они хуже, однако, дворянских?)
Я от Мазая рассказы слыхал.
Дети, для вас я один записал...
2
Старый Мазай разболтался в сарае:
"В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, - их жалко до слез!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, -
Нет! еще мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть ?.. Я раз за дровами
В лодке поехал - их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет, -
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой -
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, - ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой.
"То-то! - сказал я, - не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!"
Этак гуторя, плывем в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его - тягота невелика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха -
Еле жива, а толста как купчиха!
Я ее, дуру, накрыл зипуном -
Сильно дрожала... Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло,
Зайцев с десяток спасалось на нем.
"Взял бы я вас - да потопите лодку!"
Жаль их, однако, да жаль и находку -
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...
Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
"Глянь-ко: что делает старый Мазай!"
Ладно! любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились:
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил - и "с богом!" сказал...
И во весь дух
Пошли зайчишки.
А я им: "У-х!"
Живей, зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чур зимой
Не попадайся!
Прицелюсь - бух!
И ляжешь... Ууу-х!.."
Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось -
Сильно измокли, ослабли; в мешок
Я их поклал - и домой приволок,
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул - и дали стречка!
Я проводил их всё тем же советом:
"Не попадайся зимой!"
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая, - линяет косой... "
Тема раздела: Хочу все знать
В. Катаев. Цветик-семицветик.
Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за баранками. Купила Женя семь баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика. Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идёт, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака да все баранки одну за другой и съела: съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром.Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур лёгкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликову бараночку доедает, облизывается.
— Ах, вредная собака! — закричала Женя и бросилась её догонять.
Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит — место совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись — старушка.
— Девочка, девочка, почему ты плачешь?
Женя старушке всё и рассказала.
Пожалела старушка Женю, привела её в свой садик и говорит:
— Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато растёт у меня в садике один цветок, называется — цветик-семицветик, он всё может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик, он всё устроит.
С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: жёлтый, красный, зелёный, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой.
— Этот цветик, — сказала старушка, — не простой. Он может исполнить всё, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается.
Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та проводила её до ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки как не бывало. Что делать? Женя уже собиралась, по своему обыкновению, заплакать, даже нос наморщила, как гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок.
— А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик!
Женя поскорее оторвала жёлтый лепесток, кинула его и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы я была дома с баранками!
Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках — связка баранок!
Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: «Это и вправду замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую красивую вазочку!»
Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке.
В это время, как на грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон — семь или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз и — бац! — раскололась на мелкие кусочки.
— Ты опять что-то разбила, тяпа! Растяпа! — закричала мама из кухни. — Не мою ли самую любимую вазочку?
— Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось! — закричала Женя, а сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая!
Не успела она это сказать, как черепки сами собой поползли друг к другу и стали срастаться.
Мама прибежала из кухни — глядь, а её любимая вазочка как ни в чём не бывало стоит на своём месте. Мама на всякий случай погрозила Жене пальцем и послала её гулять во двор.
Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в папанинцев: сидят на старых досках, и в песок воткнута палка.
— Мальчики, мальчики, примите меня поиграть!
— Чего захотела! Не видишь — это Северный полюс? Мы девчонок на Северный полюс не берём.
— Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?
— Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное сжатие.
— Значит, не принимаете?
— Не принимаем. Уходи!
— И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а на всамделишном. А вам — кошкин хвост!
Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный цветик-семицветик, оторвала синий лепесток, кинула и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе!
Не успела она это сказать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля закружилась под ногами, как волчок.
Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, одна-одинёшенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов!
— Ай, мамочка, замерзаю! — закричала Женя и стала плакать, но слёзы тут же превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямёхонько к девочке, один другого страшней: первый — нервный, второй — злой, третий — в берете, четвёртый — потёртый, пятый — помятый, шестой — рябой, седьмой — самый большой.
Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зелёный лепесток, кинула и закричала что есть мочи:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе!
И в тот же миг она очутилась опять во дворе. А мальчики на неё смотрят и смеются:
— Ну и где же твой Северный полюс?
— Я там была.
— Мы не видели. Докажи!
— Смотрите — у меня ещё висит сосулька.
— Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла?
Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на другой двор водиться с девочками.Пришла, видит — у девочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого трёхколёсный велосипед, а у одной — большая говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных калошках. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали жёлтые, как у козы.
«Ну, — думает, — я вам сейчас покажу, у кого игрушки!»
Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои!
И в тот же миг откуда ни возьмись со всех сторон повалили к Жене игрушки.
Первыми, конечно, прибежали куклы, громко хлопая глазами и пища без передышки: «папа-мама», «папа-мама». Женя сначала очень обрадовалась, но кукол оказалось так много, что они сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и половину площади. Невозможно было сделать шагу, чтобы не наступить на куклу. Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов говорящих кукол? А их было никак не меньше. И то это были только московские куклы. А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов ещё не успели добежать и галдели, как попугаи, по всем дорогам Советского Союза. Женя даже слегка испугалась. Но это было только начало. За куклами сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, трёхколёсные велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать ещё громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолётов, дирижаблей, планёров. С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и деревьях. Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари и не знали, что им делать.
— Довольно, довольно! — в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. — Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я боюсь…
Но не тут-то было! Игрушки всё валили и валили…
Уже весь город был завален до самых крыш игрушками.
Женя по лестнице — игрушки за ней. Женя на балкон — игрушки за ней. Женя на чердак — игрушки за ней. Женя выскочила на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и быстро сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтоб игрушки поскорей убирались обратно в магазины.
И тотчас все игрушки исчезли. Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, что остался всего один лепесток.
— Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила — и никакого удовольствия. Ну, ничего. Вперёд буду умнее. Пошла она на улицу, идёт и думает: «Чего бы мне ещё всё-таки велеть? Велю-ка я себе, пожалуй, два кило „мишек“. Нет, лучше два кило „прозрачных“. Или нет… Лучше сделаю так: велю полкило „мишек“, полкило „прозрачных“, сто граммов халвы, сто граммов орехов и ещё, куда ни шло, одну розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, всё это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше трёхколёсный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Ещё, чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там всё-таки весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? Можно велеть чего-нибудь ещё гораздо лучше. Главное, не надо торопиться».
Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, весёлые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный — сразу видно, что не драчун, и Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела своё лицо с двумя косичками, разложенными по плечам.
— Мальчик, мальчик, как тебя зовут?
— Витя. А тебя как?
— Женя. Давай играть в салки?
— Не могу. Я хромой.
И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве.
— Как жалко! — сказала Женя. — Ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегала с тобой.
— Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь.
— Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! — воскликнула Женя и вынула из кармана свой заветный цветик-семицветик. — Гляди!
С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли —
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы Витя был здоров!
И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась.
В. Бианки. По следам
Скучно Егорке целый день в избе. Глянет в окошко: бело кругом. Замело лесникову избушку снегом. Белый стоит лес.
Знает Егорка полянку одну в лесу. Эх, и местечко! Как ни придёшь – стадо куропачей из‑под ног. Фррр! Фррр! – во все стороны. Только стреляй!
Да что куропатки! Зайцы там здоровые! А намедни видал Егорка на поляне ещё след – неизвестно чей. С лисий будет, а когтищи прямые, длинные.
Вот бы самому выследить по следу диковинного зверя. Это тебе не заяц! Это и тятька похвалит.
Загорелось Егорке: сейчас в лес бежать!
Отец у окошка сапоги валяные подшивает.
– Тять, а тять!
– Чего тебе?
– Дозволь в лес: куропачей пострелять!
– Ишь, чего вздумал, на ночь глядя‑то!
– Пусти‑и, тять! – жалобно тянет Егорка.
Молчит отец; у Егорки дух заняло, – ой, не пустит!
Не любит лесник, чтоб парнишка без дела валандался. А и то сказать: охота пуще неволи. Почему мальчонке не промяться? Всё в избе да в избе…
– Ступай уж! Да гляди, чтоб до сумерок назад. А то у меня расправа коротка: отберу фузею и ремнём ещё настегаю.
Фузея – это ружьё. У Егорки своё, даром что парнишке четырнадцатый год. Отец из города привёз. Одноствольное, бердана называется. И птицу и зверя из него бить можно. Хорошее ружьё.
Отец знает: бердана для Егорки – первая вещь на свете. Пригрози отнять – всё сделает.
– Мигом обернусь, – обещает Егорка.
Сам уже полушубок напялил и берданку с гвоздя сдёрнул.
– То‑то, обернусь! – ворчит отец. – Вишь, по ночам волки кругом воют. Смотри у меня!
А Егорки уж нет в избе. Выскочил на двор, стал на лыжи – и в лес.
Отложил лесник сапоги. Взял топор, пошёл в сарай сани починять.
Смеркаться стало. Кончил старик топором стучать.
Время ужинать, а парнишки нет. Слышно было: пальнул раза три. А с тех пор ничего.
Ещё время прошло. Лесник зашёл в избу, поправил фитиль в лампе, зажёг её. Вынул каши горшок из печи. Егорки всё нет. И где запропастился, поганец? Поел. Вышел на крыльцо. Темь непроглядная. Прислушался – ничего не слыхать. Стоит лес чёрный, суком не треснет. Тихо, а кто его знает, что в нём?
– Воууу‑уу!..
Вздрогнул лесник. Или показалось? Из лесу опять:
– Воуу‑уу!..
Так и есть, волк! Другой подхватил, третий… целая стая! Ёкнуло в груди: не иначе, на Егоркин след напали звери!
– Вуу‑вооу‑уу!..
Лесник заскочил в избу, выбежал – в руках двустволка. Вскинул к плечу, из дул полыхнул огонь, грохнули выстрелы. Волки пуще. Слушает лесник: не отзовётся ли где Егорка?
И вот из лесу, из темноты, слабо‑слабо: «бумм!»
Лесник сорвался с места, ружьё за спину, подвязал лыжи – и в темноту, туда, откуда донёсся Егоркин выстрел.
Темь в лесу – хоть плачь! Еловые лапы хватают за одежду, колют лицо. Деревья плотной стеной – не продерёшься. А впереди волки. В голос тянут:
– Вуу‑ооуууу!..
Лесник остановился; выстрелил ещё.
Нет ответа. Только волки. Плохое дело!
Опять стал продираться сквозь чащу. Шёл на волчий голос.
Только успел подумать: «Воют, – пока, значит, ещё не добрались…» Тут разом вой оборвался. Тихо стало.
Прошёл лесник ещё вперёд и стал. Выстрелил. Потом ещё. Слушал долго. Тишь такая – прямо ушам больно. Куда пойдёшь? Темно. А идти надо. Двинулся наугад. Что ни шаг, то гуще. Стрелял, кричал. Никто не отвечает. И опять, уж сам не зная куда, шагал, продирался по лесу.
Наконец совсем из сил выбился, осип от крика. Стал – и не знает, куда идти: давно потерял, в какой стороне дом.
Пригляделся: будто огонёк из‑за деревьев? Или это волчьи глаза блестят?
Пошёл прямо на свет. Вышел из лесу: чистое место, посреди него изба. В окошке свет. Глядит лесник, глазам не верит: своя изба стоит! Круг, значит, дал в темноте по лесу.
На дворе ещё раз выстрелил. Нет ответа. И волки молчат, не воют. Видно, добычу делят.
Пропал парнишка!
Скинул лесник лыжи, зашёл в избу. В избе тулупа не снял, сел на лавку. Голову на руки уронил да так и замер.
Лампа на столе зачадила, мигнула и погасла. Не заметил лесник.
Мутный забелел свет за окошком. Лесник поднялся. Страшный стал: в одну ночь постарел и сгорбился.
Сунул за пазуху хлеба краюху, патроны взял, ружьё.
Вышел на двор – светло. Снег блестит. Из ворот тянутся по снегу две борозды от Егоркиных лыж. Лесник поглядел, махнул рукой. Подумал: «Если б луна ночью, может, и отыскал бы парнишку по белотропу. Пойти хоть косточки собрать! А то бывает же такое! – может, и жив ещё?..»
Приладил лыжи и побежал по следу. Борозы свернули влево, повели вдоль опушки. Бежит по ним лесник, сам глазами по снегу шарит. Не пропускает ни следа, ни царапины. Читает по снегу, как по книге. А в книге той записано всё, что с Егоркой приключилось за ночь. Глядит лесник на снег и всё понимает: где Егорка шёл и что делал.
Вот бежал парнишка опушкой. В стороне на снегу крестики тонких птичьих пальцев и острых перьев.
Сорок, значит, спугнул Егорка. Мышковали тут сороки: кругом мышиные петли‑дорожки.
Тут зверька с земли поднял.
Белка по насту прыгала. Её след. Задние ноги у неё длинные – следок от них тоже длинный. Задние ноги белка вперёд за передние закидывает, когда по земле прыгает. А передние ноги короткие, маленькие – следок от них точечками.
Видит лесник: Егорка белку на дерево загнал, там её и стукнул. Свалил в снег с ветки.
«Меткий парнишка!» – думает лесник.
Глядит: здесь вот Егорка подобрал добычу и дальше пошёл в лес. Покружили, покружили следы по лесу и вывели на большую поляну.
На поляне Егорка, видать, разглядывал заячьи следы – малики.
Густо натропили зайцы: тут у них и петли и смётки – прыжки. Только Егорка не стал распутывать заячьи хитрости: лыжные борозды прямо через малики идут.
Вон дальше снег в стороне взрыхлён, птичьи следы и обгорелый пыж на снегу. Куропатки это белые. Целая стая спала тут, в снег зарывшись. Услышали птицы Егорку, вспорхнули. А он выпалил. Все улетели; одна шмякнулась. Видно, как билась на снегу.
Эх, лихой рос охотник: птицу на лету валил! Такой и от волков отбиваться может, даром им в зубы не дастся.
Заторопился лесник дальше, сами ноги бегут, поспевают.
Привёл след к кусту – и стоп!
Что за леший?
Остановился Егорка за кустом, толчётся лыжами на месте, нагнулся – и рукой в снег. И в сторону побежал.
Метров сорок прямо тянется след, а дальше колесить стал. Э, да тут звериные следы! Величиной с лисьи, и с когтями…Что за диковина? Сроду такого следа не видано: не велика лапа, а когтищи с вершок длиной, прямые, как гвозди!
Кровь на снегу: пошёл дальше зверь на трёх. Правую, переднюю, Егорка ему зарядом перешиб.
Колесит по кустам, гонит зверя.
Где уж тут было парнишке домой ворочаться: подранка разве охотник бросит?
Только вот что за зверь? Больно здоровые когтищи! Тяпнет такими по животу из‑за куста… Парнишке много ли надо!
Глубже и глубже в лес лыжный след – сквозь кусты, мимо пней, вокруг поваленных ветром деревьев. Ещё на корягу налетишь, лыжу поломаешь!
Эх, желторотый! Заряд, что ли, бережёт? Вот это место – за вывороченными корнями – и добить бы зверя. Некуда ему тут податься. А руками разве скоро возьмёшь? Сунься к нему, к раненому! Обозлённый‑то и хомячишко в руки не дастся, а этот зверь, видать, тяжёлый: дырья от него в снегу глубокие.
Да что же это: никак снег падает? Беда теперь: занесёт след, тогда как быть?
Ходу! Ходу!
Кружит, колесит по лесу звериный след, за ним лыжный. Конца не видно. А снег гуще, гуще.
Впереди просвет. Лес пошёл редкий, широкоствольный. Тут скорей ещё следы засыпает, всё хуже их видать, трудней разбирать.
Вот наконец: догнал тут Егорка зверя! Снег примят, кровь на нём, серая жёсткая шерсть. Поглядеть надо по шерсти‑то, что за зверь такой. Только неладно тут как‑то наслежено… На оба колена парнишка в снег упал…
А что там впереди торчит? Лыжа! Другая! Узкие глубокие ямы в снегу: бежал Егорка, провалился…
И вдруг – спереди, справа, слева, наперерез – машистые, словно собачьи, следы. Волки! Настигли, проклятые!
Остановился лесник: на что‑то твёрдое наткнулась его правая лыжа. Глянул: бердана лежит Егоркина.
Так вот оно что! Мёртвой хваткой схватил вожак за горло, выронил парнишка ружьё из рук, – тут и вся стая подоспела…
Конец! Взглянул лесник вперёд: хоть бы одёжи клок подобрать!
Будто серая тень мелькнула за деревьями. И сейчас же оттуда глухое рычание и тявк, точно псы сцепились. Выпрямился лесник, сдёрнул ружьё с плеча, рванул вперёд.
За деревьями над кучей окровавленных костей, оскалив зубы и подняв шерсть, стояли два волка. Кругом валялись, сидели ещё несколько…
Страшно вскрикнул лесник и, не целясь, выпалил сразу из обоих стволов.
Ружьё крепко отдало ему в плечо. Он покачнулся и упал в снег на колени.
Когда разошёлся пороховой дым, волков уже не было.
В ушах звенело от выстрела. И сквозь звон ему чудился жалобный Егоркин голос: «Тять!»
Лесник зачем‑то снял шапку. Хлопья снега падали на ресницы, мешали глядеть.
– Тять!.. – так внятно опять почудился тихий Егоркин голос.
– Егорушка! – простонал лесник.
– Сними, тять!
Лесник испуганно вскочил, обернулся… На суку большого дерева, обхватив руками толстый ствол, сидел живой Егорка.
– Сынок! – вскрикнул лесник и без памяти кинулся к дереву.
Окоченевший Егорка мешком свалился на руки отцу.
Духом домчался лесник до дому с Егоркой на спине. Только раз пришлось ему остановиться – Егорка пристал, лепечет одно:
– Тять, бердану мою подбери, бердану…
* * *
В печи жарко пылал огонь. Егорка лежал на лавке под тяжёлой овчиной. Глаза его блестели, тело горело.
Лесник сидел у него в ногах, поил его горячим чаем с блюдечка.
– Слышу, волки близко, – рассказывал Егорка. – Сдрейфил я! Ружьё выронил, лыжи в снегу завязли, бросил. На первое дерево влез, – они уж тут. Скачут, окаянные, зубами щёлкают, меня достать хотят. Ух, и страшно, тятя!
– Молчи, сынок, молчи, родимый! А скажи‑ка, стрелок, что за зверя ты подшиб?
– А барсука, тятя! Здоровый барсучище, что твоя свинья. Видал когти‑то?
– Барсук, говоришь? А мне и невдомёк. И верно: лапа‑то у него когтистая. Ишь, вылез в оттепель, засоня! Спит он в мороз, редкую зиму вылезет. Погоди вот – весна придёт, я тебе нору его покажу. Знатная нора! Лисе нипочём такой не вырыть.
Но Егорка уже не слышал. Голова его свалилась набок, глаза сами закрылись. Он спал.
Лесник взял у него из рук блюдце, плотней прикрыл сына овчиной и глянул в окно.
За окном расходилась метель. Сыпала, сыпала и кружила в воздухе белые лёгкие хлопья – засыпала путаные лесные следы.
П. Бажов. Малахитовая шкатулка
У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.
Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-то, в конце нали посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.
— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!
Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:
— Убери-ко куда от греха подальше.
Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.
Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:
— Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.
Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили; ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.
Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.
— Ладно, — говорит, — поберегу на черный день. — И поставила шкатулку на старо место.
Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:
— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.
Ну, отстали по времени.
Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:
— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать! Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.
Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов всё. Кто сто рублей дает, кто двести.
— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение делаем.
Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.
Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:
— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.
От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:
— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама черненька да бассенька, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.
Степан пошутит, бывало:
— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.
Так эту девчоночку Памяткой и звал.
— Ну-ка ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.
Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:
— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.
По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:
— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.
Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:
— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!
Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:
— Не изломай чего!
Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.
Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навел его, весь порядок обсказал.
Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:
— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.
Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:
— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?
А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.
— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.
— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.
Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:
«Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает»
До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и суседи тоже.
Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто.
А сама думает:
«Оберегать-то ее все ж таки покрепче надо».
Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.
Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.
Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает»,— а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.
— По миру впору придет — тогда продам.
Хоть круто ей приходилось, а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?
А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:
— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.
Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом все-таки пустила.
— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером — квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.
А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.
«Ишь неочесливая! Приветить ее не успела, а она нако — обутки сняла и котомку развязала».
Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:
— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-то на это будет!
Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком вышиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.
Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.
— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь — выучу?
— Хочу, — говорит.
Настасья так и взъелась:
— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ка, денег стоят.
— Про то не беспокойся, хозяюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.
Тут Настасье уступить пришлось.
— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.
Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:
«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»
А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!
— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.
— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.
Танюшка даже не подумала, что это неладно.
— Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет.
Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:
— Надень-ко на себя — виднее будет.
Ну, Танюшка,— не того слова, — стала надевать, а та, знай, похваливает:
— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.
Подошла поближе да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:
— Встань-ко, доченька, пряменько.
Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Вею огладила, а сама наставляет:
— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!
Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинах. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзаду нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.
В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.
Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:
— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.
А женщина та посмеивается:
— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.
Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещение?
— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палатка, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.
— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?
— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.
В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махоньку. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.
Подает ее Танюшке да и говорит:
— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.
Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.
С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?
В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепочкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:
— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.
Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:
— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдем!
Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.
Суседки уж стали Настасью корить:
— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?
Настасья на эти покоры только вздыхает:
— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!
Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:
— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.
Сыновья в один голос:
— Продавай, мамонька. Не продешеви только.
Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:
— Продавать так продавать. — И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у соседей приютились, где тут раскладываться.
Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят, — робята подросли, — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.
Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.
Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.
На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.
Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.
— Чем, — говорит, — тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?
Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.
— Давно, — говорит, — об этом мечтанье имела, да сказать — не насмелилась.
Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:
— Не желаю, — шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.
Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.
Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала — шкатулку продают. «Дай-ко, — думает, — посмотрю, может, всамделе стоющее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!
— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие такие камешки продаешь?
Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. оЧто же это, — думает, — такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут нако — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».
— Сколько, — спрашивает, — просишь?
Настасья говорит:
— Две бы тысячи охота взять.
— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.
Настасья, однако, на это не подалась.
— У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.
Барыня видит — вон какая женщина, — живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:
— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.
Настасья отвечает:
— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.
Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:
— Ну, как?
— Запродала,— отвечает Настасья.
— За сколь?
— За две, как назначила.
— Что ты, — кричат, — ума решилась али что! В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.
Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.
— Это, — говорит, — вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!
Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась.
— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.
— Дочерью люди зовут, — отвечает Настасья. — Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!
— Напрасно, милая, так думаешь, — говорит Паротина баба. — Найду я местичко этим каменьям. — А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».
С тем и разошлись.
Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:
— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.
Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. — Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела — чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!
А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил»
Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни не взглянул.
— Не возьмусь, — говорит, — что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.
Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.
— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.
Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.
«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»
Потом опять переводит в уме: «Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.
Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:
— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.
Паротя и спрашивает:
— Чья такая? В котором месте живет?
Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала. Паротя и говорит:
— Поглядеть бы, — а у запивох и заделье нашлось.
— Хоть сейчас пойдем — осведетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.
Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать;
— Что поделываете?
Танюшка говорит:
— По заказу шью, — и работу свою показала.
— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?
— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.
— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?
Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:
— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.
— Об этом,— говорит,— не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.
— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежа другая.
Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:
— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!
Ну вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! Да ведь это она самая и есть, одежой да каменьями изукрашенная. Подает, коечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.
— Не привышны, — говорит, — мы подарки принимать. Трудами кормимся.
Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.
Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай-де до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.
Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:
— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.
— Кто такая? — спрашивает.
Паротя знай похохатывает:
— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!
Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:
— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!
Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:
— Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!
Барин как услышал про камни, так сейчас же:
— Ну-ко, покажи!
Он, слышь-ко, малоуменький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.
Паротина баба видит — делать нечего, — принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:
— Сколько?
Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол да и говорит:
— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.
Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, — думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:
— Зачем звали?
Барин и слова сказать не может. Уставился на нее да и все. Потом все ж таки нашел разговор:
— Ваши камни?
— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.
— Мои теперь, — похвалился барин.
— Это дело ваше.
— А хошь, подарю обратно?
— Отдаривать нечем.
— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.
— Это, — отвечает Танюшка, — можно.
Взяла шкатулку, разобрала уборы, — привычно дело, — и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:
— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.
Барин тут при всех и говорит:
— Выходи за меня замуж. Согласна?
Танюшка только усмехнулась:
— Не под стать бы ровно барину такое говорить. — Сняла уборы и ушла.
Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.
Настасья говорит:
— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.
Танюшка слушала-слушала да и молвит:
— Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.
Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:
— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.
— Когда же, — спрашивает, — ты в Сам-Петербурхе будешь?
— К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.
Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала, — тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда:
— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!
А Танюшка отвечает:
- Мне и тут хорошо.
Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:
— Пущай-ка Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.
Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:
— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.
Барин думает, — откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать все ж таки не насмелился.
Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:
— Чья такая? Каких земель царица?
А барин Турчанинов тут как тут.
— Моя невеста, — говорит.
Танюшка эдак строго на него поглядела:
— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?
Барин туда-сюда,— оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.
Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова барина:
— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.
— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.
Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.
Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.
Царица и кричит:
— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!
Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:
— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!
С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.
Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:
— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!
Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:
— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?
Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.
А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.
Не поживилась и Паротина жена: поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!
Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.
Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.
И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!
Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.
Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:
— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.
Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.
М. Алимбаев Метель.
Закружила
Белая мгла,
Заблудились
В степи морозы,
И метель,
И пурга
Из глаз
Высекают
Невольные слезы.
Но затихнет
Метель поутру,
Солнце выбросит
Стрелы тугие,
И узоры
Искрят по двору.
Это ж надо
Придумать такие!
А. Асылбеков. Зима.
До чего ты, зима, холодна,
Промерзают озера до дна!
Птиц – морозная мучает дрожь,
А без шапки – гулять не пойдешь.
До чего ты, зима, хороша!
Мастерила свой мир не спеша,
Желтый сад, серый сквер,
черный след
В ярко-белый покрасила цвет.
Ты – затейница, наша зима!
А мальчишек – так сводишь с ума:
Им и крепость построить не лень,
И кататься с горы целый день.
Ты сама с ними звонко галдишь
И под горку на санках летишь,
И румянишь лицо на бегу,
Оставляя алмазы в снегу.
З. Александрова. Салют весне.
Ударил гром двенадцать раз
И замер в стороне.
Природа отдала приказ
Салютовать весне.
Приказ – черемухе цвести,
Крапиве быть не злой,
Дождю – дорожки подмести
Серебряной метлой.
Чтоб каждый кустик был певуч,
Всем птицам звонче петь,
А солнцу выйти из-за туч
И веселее греть.
Внеклассное чтение.
А.Платонов. Сухой хлеб
1
Жил в деревне Рогачевке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова еще дедушка, да он умер от старости еще до войны, и лица его Митя не помнил; помнил он только доброе тепло у груди деда, что
согревало и радовало Митю, помнил грустный, глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. "Куда ушел дедушка?" – думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел ее. Он думал, что и бревна в их избе и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и
коровы, только они спят.
- А где дедушка? - спрашивал Митя у матери. - Он спит в земле?
- Он спит, - говорила мать
- Он уморился? - спрашивал Митя.
- Уморился, - отвечала мать. - Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плел; всю жизнь ему спать было некогда.
- Мама, разбуди его! - просил Митя.
- Нельзя. Он осерчает.
- А папа тоже спит?
- И папа спит.
- У них ночь?
- У них ночь, сынок.
- Мама, а ты никогда не уморишься? - спрашивал Митя и с боязнью смотрел в материнское лицо.
- Нет, чего мне, сынок, я никогда не уморюсь. Я здоровая, я не старая... Я тебя еще долго буду растить, а то ты у меня маленький. И Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснет, как
уснули дед и отец. Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а
мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали. Мать была большая, сильная, под ее руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери. В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки черного пламени, будто ветер сдувал огонь с солнца
и нес его по земле. В полдень все небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал ее в мертвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.
Мать Мити пахала паровое поле. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, что стояла на пашне, и, когда набиралась полная бадья, она поила волов, чтобы они не
затомились и пахали. Митя видел, как тяжко было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волы. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.
Подумав так, Митя пошел домой. Мать ночью испекла хлебы и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было: он хотел скорее вырасти большим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он
скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мякоть и хлебную корку; сперва он ел в охоту, а потом стал давиться от сытости; хлеб из его рта хотел выйти обратно, а он запихивал его пальцами и терпеливо жевал. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не надо было. Ему надо есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел еще капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печеную картошку из горшка, макая ее в соль.
Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.
Вечером мать пришла с пахоты. Видит она, спит ее сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его - не искусал ли его кто, глядит - живот у него, как барабан.
Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне.
А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.
С утра Митя ходил по деревне, потом пошел на пашню к матери и все время поглядывал на встречных и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень, не длиннее ли она стала. Тень его словно
бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.
- Мама, - сказал Митя, - давай я пахать буду, мне пора!
Мать ответила ему:
- Обожди! Придет и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный еще, тебе расти и кормиться еще надо, и я тебя буду кормить!
Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.
- Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!
Мать улыбнулась ему, и от нее, от матери, все стало вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его
сердце от радости.
- Мама! - воскликнул Митя. - А что мне надо делать? А то я тебя люблю.
- А чего тебе делать! - сказала мать. - Живи, вот тебе работа. Думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай.
- А обо мне ты тоже думаешь?
- О тебе я тоже думаю - один ты у меня, - ответила мать. - Ой, лешие! Чего стали? - сказала она волам. - А ну, вперед! Не евши, что ль, жить будем?
2
В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали старые от времени, по ним уже давно рос зеленый мох. А сам сарай ушел с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика. В темном углу того сарая лежали старые, давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот темный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: "Его дедушка в руках держал и я держу". Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю. Митя нашел там еще колесо от домашней прялки...
Там же валялся кочедык: он был нужен дедушке, когда он плел лапти себе и своим детям. Там еще много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них, он думал о том, как они жили давно в старинное время; тогда еще Мити не было на
свете, и всем скучно было, что его нету. Нынче Митя нашел в сарае твердую дубовую палку: на одном конце ее был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или еще что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнес ее в избу. Может быть, она ему сгодится: дедушка ею работал и он будет.
3
К самому пряслу Климова двора подходило колхозное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это хлебное поле и видел, как рожь морилась жарою и умирала: малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли замертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал подымать иссохшие хлебные былинки, чтоб они жили
опять, но они жить не могли и клонились как сонные на спекшуюся, горячую землю.
- Мама, - говорил он, - рожь от жары умаривается?
- Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и теперь нету, а хлеб не железный, он живой.
- А роса есть! - сказал Митя. - Она по утрам бывает.
- А чего роса! - ответила мать. - Роса сохнет скоро; земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.
- Мама, а как же быть-то без хлеба?
- Незнамо как и быть... Должно, помощь тогда будет, мы в государстве живем.
- А лучше пусть в колхозе хлеб растет, пусть роса в землю проходит.
- Так бы оно лучше было, да хлеб без дождя не рождается.
- Он не вырастет большой, он спит маленький! - произнес Митя; он скучал о тех, кто спит.
Он пошел один домой, а мать осталась на пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил ее рукою - дедушка тоже, должно быть, гладил ее, - положил тяпку на плечо и пошел па колхозное озимое поле, что было за пряслом.
Там он стал рыхлить тяпкой спекшуюся землю промеж рядов уснувших ржаных былинок. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А еще ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная
былинка проснется и будет жить. Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелек тот сломался и поник.
- Нельзя! - вскричал Митя самому себе. - Ты что делаешь!
Он оправил стебелек, уставил его в земле и стал теперь мотыжнть землю лишь посредине междурядья, чтобы не поранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней хлеба. Корни были осохшие, слабые, мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупывал пальцами и разрыхлял почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его. Митя работал долго и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинок.
Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учительницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у нее осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не горевала, что она калека; она всегда
была веселая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая.
- Митя! Ты что тут копаешься? - спросила учительница.
- Хлеб пусть растет! - сказал Митя. - Я хлебу помогаю, чтоб он жил.
- Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!
- Он росу будет пить!
Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.
- Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?
- Не скучно, - сказал Митя.
- А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдем, и ты пойдешь... Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил:
- Я маму все время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.
Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе:
- Ах ты, милый мой! Какое сердце у тебя - маленькое, а большое!.. Знаешь что? Ты тяпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!
И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тяпкой, а учительница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней. На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна; с нею пришло семеро детей, учеников первого и второго классов. Митя один уже работал
деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю. Солнце поднялось, роса уже сошла и ветер с огнем дул по земле. Однако те
ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.
- Они просыпаются! - обрадованно сказал Митя учительнице. - Они проснутся!
- Конечно, проснутся, - согласилась учительница. - Мы их разбудим!
Она увела учеников с собой, и Митя остался один.
"Мама пашет, и я хлебу расти помогаю, - думал Митя. - У учительницы одна рука только, а то бы она тоже работала".
Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб, - она сама стала работать одной рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы
помочь им жить и расти.
Внеклассное чтение.
А. Барто. Серёжа учит уроки
Сережа взял свою тетрадь -
Решил учить уроки:
Озера начал повторять
И горы на востоке.
Но тут как раз пришел монтер.
Сережа начал разговор
О пробках, о проводке.
Через минуту знал монтер,
Как нужно прыгать с лодки,
И что Сереже десять лет,
И что в душе он летчик.
Но вот уже зажегся свет
И заработал счетчик.
Сережа взял свою тетрадь -
Решил учить уроки:
Озера начал повторять
И горы на востоке.
Но вдруг увидел он в окно,
Что двор сухой и чистый,
Что дождик кончился давно
И вышли футболисты.
Он отложил свою тетрадь.
Озера могут подождать.
Он был, конечно, вратарем,
Пришел домой не скоро,
Часам примерно к четырем
Он вспомнил про озера.
Он взял опять свою тетрадь -
Решил учить уроки:
Озера начал повторять
И горы на востоке.
Но тут Алеша, младший брат,
Сломал Сережин самокат.
Пришлось чинить два колеса
На этом самокате.
Он с ним возился полчаса
И покатался кстати.
Но вот Сережина тетрадь
В десятый раз открыта.
- Как много стали задавать!-
Вдруг он сказал сердито. -
Сижу над книжкой до сих пор
И все не выучил озер.
Внеклассное чтение.
Ю. Сотник . Как меня спасали.
Дело было ранней весной. Мы с Аглаей пришли на речку, чтобы полюбоваться ледоходом, но он почти уже кончился. Вспухшая вода тащила теперь ледяную мелочь да всякий сор, а крупные льдины проплывали редко.
Мы сели на бревна, сваленные на берегу, и стали грызть подсолнухи. Аглая щелкала их лихо, бросая семечки в рот и выплевывая шелуху метра на три от себя. Я с завистью поглядывал на нее и старался ей подражать, но у меня ничего не получалось. Каждое семечко я мусолил по целой минуте, подбородок и руки мои стали мокрыми от слюны, и к ним прилипала шелуха.
– Сегодня и глядеть-то не на что, – сказала Аглая. – Вот вчера – это да! Вчера такие льдины плыли – весь мост дрожал. А на одной льдине мы кошку видели. Бегает, мяукает!.. Мне так жалко ее было... Просто ужас!
– Бывает, что и людей уносит, не то что кошек, – ответил я. – На Днепре вот двоих девчонок унесло, а пятиклассник их спас.
Аглая покосилась на меня:
– Кто-о?.. Пятиклассник? Выдумываешь!
– Не веришь? Почитай вчерашнюю "Пионерку". Девчонки маленькие были, лет по шести... Их на льдине стало уносить, а они попрыгали в воду, думали – мелко, и начали тонуть. А пятиклассник схватил большую доску, подплыл к ним на ней и спас.
– У!.. На доске! На доске и я бы спасла. А что ему было за то, что он спас?
– Какой-то грамотой его наградили и ценным подарком. А в "Пионерке" даже портрет его напечатали. Погоди, у меня, кажется, с собой эта газета: я в нее бутерброд заворачивал.
Газета действительно оказалась у меня. Я передал Аглае скомканный листок. Шепча себе под нос, она прочла заметку "Отважный поступок Коли Гапоненко" и принялась разглядывать помещенный тут же Колин портрет.
– Во, Лешка! Небось этот Колька не думал и не гадал, что про него в газете напечатают! Вчера был мальчишка как мальчишка, никто на него и внимания не обращал, а сегодня – нате вам! – на всю страну прославился. Она вернула газету мне. – Вот бы нам кого-нибудь спасти!
Я промолчал: не хотелось признаваться, что я сам плаваю как топор.
– И чтобы наши портреты тоже напечатали, – продолжала Аглая. – Ты бы в чем сфотографировался? Я бы знаешь в чем? Я бы в новом берете, что мне тетя Луша подарила. Мы бы с тобой шли по улице, а нас бы все узнавали: "Глядите! Глядите! Вот те самые идут... которые спасли". Во было бы! Да, Лешка?
Я пробормотал, что это, конечно, было бы неплохо. Аглая совсем размечталась:
– Лешк! А в школе?.. Вот бы ребята на нас глаза таращили! А мы бы ходили себе, будто ничего такого и не случилось, будто мы и не понимаем, чего это все на нас так смотрят. Мы бы не стали воображать, как некоторые. Да, Лешка? Ну чего, мол, такого особенного! Ну спасли человека и спасли подумаешь какое дело! Верно, Лешка, я говорю?
Я молча кивнул. Аглая вскочила на ноги.
– А что, думаешь, мы не могли бы спасти? – почти закричала она. – Вот если бы сейчас тут на льдине кого-нибудь понесло, думаешь, мы не смогли бы спасти?
– Смогли бы, наверное... Если бы на доске.
Аглая сжала худенькие кулаки, топнула сапожком по бревну, на котором стояла, и, подняв лицо к небу, замотала головой:
– Эх! Ну вот все бы отдала, только бы сейчас здесь кого-нибудь на льдине понесло!
Я сказал, что надеяться на это не стоит, что такие счастливые случаи выпадают редко.
Аглая притихла. Она зажала указательный палец зубами и с минуту думала о чем-то, глядя на речку. Вдруг она села на бревна и повернулась ко мне:
– Лешк! А давай друг друга спасем.
– Как это – друг друга? – не понял я.
– По очереди: сначала я тебя, потом ты меня.
– Как это – по очереди?
– А так! Видишь льдину? Ее чуток от того бревна отпихнуть, она и поплывет...
– Ну и что? – спросил я.
– А вот и то! Неужели не понял? Ты стань на эту льдину, а я буду гулять по берегу, будто тебя не замечаю. А потом ты вон тем шестом оттолкнись и кричи: "Спасите!" Только громче кричи, чтобы люди с моста услышали. Они побегут тебя спасать, а я первая брошусь в речку, и ты тоже бросайся, и я тебя вытащу. И получится, вроде я тебя спасла.
Я даже отодвинулся от этой сумасшедшей и молча замотал головой.
– Во! Струсил уже! – воскликнула Аглая.
– Вовсе я не струсил, а просто... просто я не хочу лезть в холодную воду. Тут знаешь, как можно простудиться!..
– "Простудиться"! Эх, ты!.. "Простудиться"! Люди в проруби зимой купаются и то не простужаются, а ты несколько секунд помокнуть боишься. Ведь сбежится народ, так тебя сразу десятью шубами с ног до головы укутают.
– И еще... и потом, я плавать... Одним словом, я плаваю не очень хорошо, – пробормотал я.
Аглая вскочила.
– Да зачем тебе плавать? – закричала она. – Ты погляди, тут воды по пояс! Мы только для виду побарахтаемся, и я тебя вытащу.
Я тоже приподнялся и посмотрел на воду. Берег в этом месте спускался очень полого. Даже в двух метрах от него можно было разглядеть консервную банку, белевшую под мутной водой. Похоже, что и правда утонуть здесь было нельзя, но я продолжал сопротивляться. Я сказал, что это вообще очень нехорошо и нечестно – обманывать людей.
– Вот чудак! "Обманывать"! – передразнила Аглая. – Какой же тут обман, если мы и в самом деле могли бы спасти, да нам случай не выпадет! Чем мы виноваты, что здесь никто не тонет? А хочешь совсем без обмана, так давай отплывай на льдине подальше, и я тебя взаправду спасу... А денечка через два ты меня спасешь, и тоже без обмана... Хочешь, я с моста сигану? На самой середке! А ты заранее доску приготовишь и меня спасешь.
От такого предложения меня затряс озноб. Я промямлил, что слава меня вообще не так уж интересует.
– Тебя не интересует, ну и не надо, – согласилась Аглая. – Давай я одна тебя спасу.
Я и на это не согласился. Мы долго спорили. Аглая то ругала меня трусом, то говорила, что я самый отчаянный мальчишка во всем дворе, что только я могу отважиться на такое дело. Я не попался на эту удочку. Тогда она обозвала меня эгоистом паршивым. Я сказал, что эгоистка, наоборот, она: ей хочется славы, а я мокни из-за этого в ледяной воде. Мы совсем уже поссорились, как вдруг Аглае пришла в голову новая мысль:
– Ладно! Не хочешь мокнуть – не надо. Мы давай вот чего – ты становись на льдину, плыви и кричи: "Спасите!" А я брошусь в воду, протяну тебе шест и притащу тебя к берегу. Вместе со льдиной притащу, ты даже ноги не промочишь. Идет?
Я почувствовал, что деваться мне больше некуда, что, если я и теперь откажусь, Аглая в самом деле примет меня за труса. С большой неохотой я согласился. Я только сказал Аглае, чтобы она не вздумала спасать меня без обмана, и еще раз напомнил ей, что плаваю неважно.
Аглая сразу повеселела.
– Не! Мы тут, у бережка, – сказала она и, отбежав к тропинке, тянувшейся вдоль реки, приглушенным, взволнованным голосом стала меня торопить: – Иди! Я здесь буду гулять, а ты иди. Ты вон тем шестом оттолкнись и бросай его на берег. Иди! Ну, иди!
Однако я не двинулся. Переходить на льдину мне ужас как не хотелось. Все еще стоя на бревнах, я посмотрел на мост, видневшийся метров за пятьдесят от нас. Там шли люди, тащились подводы, с глухим гулом катились грузовики... Я повернулся и оглядел наш берег. Здесь не было домов. От самого моста тянулись дощатые заборы каких-то складов да фабрик, а дальше начинался луг. И на всем протяжении от моста до луга я не увидел ни одной человеческой фигуры. Только Аглая торчала на тропинке.
– Ну чего стоишь! Опять струсил? Иди! – сказала она сердито.
Я вздохнул и сошел с бревна. Медленно скользя и увязая в раскисшей глине, добрался я до шеста и поднял его, испачкав руки. Льдина только самым краешком касалась берега, и мне пришлось сделать шаг по воде, прежде чем стать на нее.
Утвердившись на льдине, я взглянул на Аглаю. Она прогуливалась по тропинке, заложив руки за спину, разглядывая что-то в небе, и фальшиво распевала пискливым голоском:
Куда, куда вы удалились...
Вот она зыркнула на меня одним глазом, на секунду приостановилась, тихонько сказала: "Толкайся! Отталкивайся!" – и снова заверещала:
Весны моей златые дни...
Я мысленно говорил себе, что здесь мелко, что никакой опасности нет, что через минуту я снова буду на берегу. Но мне это не помогло. Тяжелое предчувствие так угнетало меня, что коленки стали совсем слабыми, как после долгой болезни.
– Толкайся, дурак! – послышалось с берега. – Трусишь, да? Толкайся!
Что-о-о день грядущий мне гото-о-вит...
Машинально я уперся шестом в камень, лежавший на берегу. Льдина не подалась. Так же машинально я попятился назад. Край льдины, касавшийся дна, теперь приподнялся, и она стала медленно поворачиваться вокруг сваи, торчащей из воды.
Пение на берегу прекратилось.
– От столба... от столба оттолкнись! – приглушенно донеслось оттуда.
Я оттолкнулся шестом от сваи и увидел, как берег, дощатый забор на невысоком косогорчике и стоящая у забора Аглая поплыли влево.
– Бросай шест! Махай руками! Кричи! – скомандовала Аглая, следя за мной краешком глаза.
Я бросил шест на берег, помахал немножко руками и сказал "спасите" так тихо, что сам себя не услышал.
– Э-эй! На помощь! – крикнула что было сил Аглая и понеслась с косогора к брошенному мной шесту. Скачок, другой, третий... Шлеп! Ноги Аглаи увязли, и она растянулась в грязи.
Мне бы нужно было спрыгнуть в воду да идти к берегу, но я этого не сделал. Я смотрел на Аглаю. Она вскочила, рванулась и снова упала. Когда она добралась наконец до шеста, я уплыл уже метров на пятнадцать вперед. Подняв шест, Аглая побежала, с трудом выдирая ноги из грязи. Тут я увидел, что пологий берег кончился. Теперь в трех метрах от меня тянулся невысокий глинистый обрыв с пучками старого дерна наверху. Вплотную к обрыву бежала темно-бурая вода, бежала быстро, закручиваясь водоворотиками, неся соломинки и щепочки.
"Все! Так я и знал! Теперь все!.." – пронеслось у меня в голове.
О чем я еще тогда думал, я не помню. Кажется, ни о чем. Я стоял лицом к мосту, стоял согнувшись, широко расставив ноги, растопырив руки. Я даже не кричал, а только смотрел.
Вот я увидел, как Аглая появилась над краем обрыва и, волоча по дерну шест, пустилась меня догонять. Вот она поравнялась со мной. Ее пальто, коленки и даже подбородок были заляпаны грязью; бледное лицо было обращено ко мне, и маленькие темные глаза смотрели на меня так пристально, что казалось, она вот-вот оступится и полетит с обрыва. Несколько секунд она бежала молча вровень со мной, потом слегка обогнала льдину, остановилась и опустила с обрыва шест.
– Прыгай! Прыгай! Тут близко!
Как она ни тянулась, но от конца шеста до меня было не меньше двух метров. Я молча проехал мимо.
Аглая снова обогнала льдину, снова остановилась и снова опустила шест.
– Прыгай! Тут близко. Плыви!
– Не умею. Совсем! – сказал я вдруг очень отчетливо и громко.
Аглая ничего не ответила. Она опять затрусила рысцой вдоль обрыва. По лицу ее было видно, что она теперь уже не знает, зачем бежит.
– Ма-ма-а! – позвал я громко, тоже не зная зачем.
Аглая бежала, молчала и смотрела на меня.
– Ма-ма-а-а! – крикнул я еще протяжней.
Вдруг Аглая взглянула куда-то вперед, приостановилась, о чем-то думая, а потом рванулась и побежала так быстро, что конец шеста, который она волочила, запрыгал по бурой траве.
Очень медленно, осторожно я повернулся, чтобы посмотреть вперед. Льдина колыхалась при каждом моем движении, ноги у меня тряслись.
Аглаю я увидел метров за десять впереди. Она уже не бежала. Она сидела на берегу, свесив ноги вниз. Возле нее под обрывом топорщился одинокий ивовый куст, нижние ветки которого мокли в воде.
Еще не поняв, что хочет делать Аглая, я машинально нагнулся и вытянул руки вперед. Дальше все произошло очень быстро. Льдина почти поравнялась с Аглаей. Аглая, как была – в сапожках и в пальто, скользнула с обрыва. Всплеснулась вода, полетели брызги... Конец шеста, выброшенного Аглаей, заскреб по краю моей льдины. Я сел на корточки и что было сил вцепился в мокрое дерево.
– Прыгай! – услышал я голос Аглаи.
Но я не прыгнул. Я только цеплялся за шест. Сначала меня потащило со льдины, потом ноги мои уперлись в какой-то бугорок. Я увидел голову Аглаи в воде под кустом, увидел ее красную руку с побелевшими косточками, цеплявшуюся за ветку, увидел другую руку, державшую противоположный конец шеста...
– Прыгай! Прыгай! – снова закричала она, но прыгать уже было не нужно: подтянутая шестом льдина причалила к берегу по другую сторону куста, да так удачно, что рядом с ней на обрыве оказался выступ.
Я перешагнул на него и даже ног не замочил. Как я выбрался наверх, как вскарабкалась туда Аглая, я не запомнил. Я только помню, как она предстала передо мной в потемневшем от воды коричневом пальто, с забрызганным лицом. Некоторые время мы молчали и только смотрели друг на друга. Приоткрыв рот, Аглая дышала, как паровоз. Нижняя челюсть у нее дрожала крупной дрожью.
– Живой, – шепнула она тихо.
Тут я немного пришел в себя и заплакал:
– Дура противная! Из-за тебя все это!..
Я замахнулся на свою спасительницу, но она не заметила этого. Она смотрела через мое плечо куда-то вдаль.
– Бежим! Вот люди! Бежим! – закричала она и пустилась к ближайшему проулку между фабричными заборами.
Я оглянулся. От моста по тропинке вдоль берега, растянувшись неровной цепочкой, к нам бежали люди. Бежали мужчины, бежали женщины, бежали ребятишки... Впереди всех, уже метрах в пятидесяти от нас, переваливаясь с боку на бок, бежала толстая тетенька в черном пальто, с красной кошелкой в руке.
Я повернулся и пустился к проулку вслед за Аглаей. Всю дорогу мы молчали, и лишь в воротах дома Аглая проговорила:
– Смотри никому не болтай, слышишь? Скажи, что я нечаянно в воду упала: стала на льдину, поскользнулась и упала... Слышишь? Заболею, наверное, теперь.
Аглая не заболела. На следующий день она вышла во двор как ни в чем не бывало. Я молчал о своей поездке на льдине, молчала об этом и Аглая. О славе она больше не вспоминала.
Только теперь, через много лет, она позволила мне рассказать эту историю.
Тема раздела: Золотая душа
Д.Н.Мамин-Сибиряк. Серая Шейка
I
Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, - вообще было о чем серьезно подумать.
Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...
Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.
- И куда эта мелочь торопится! - ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. - В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.
- Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, - объяснила его жена, старая Утка.
- Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.
Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:
- Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, - любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!
- Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего но говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь - глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило - не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.
Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.
- Какой ты отец? - накинулась она на мужа. - Отцы заботятся о детях, а тебе - хоть трава не расти!..
- Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...
Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.
- Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, - повторяла Утка со слезами. - Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...
- А другие дети?
- Те здоровы, обойдутся и без меня.
Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, - жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, - ведь все равно она должна погибнуть зимой.
II
Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.
- Ведь вы весной вернетесь? - спрашивала Серая Шейка у матери.
- Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.
Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.
- Как-нибудь, милая, пробьешься, - успокаивала старая Утка. - Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, - совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда!
- Я буду все время думать о вас... - повторяла бедная Серая Шейка. - Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Все равно и будет, точно и я с вами вместе.
Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.
А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, - береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всех огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.
Как им, должно быть, хорошо, - думала Серая Шейка.
Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.
- Нужно отправляться... пора! - говорили старики вожаки. - Что нам здесь ждать?
А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, - это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.
- Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, - советовала она. - Там вода не замерзнет целую зиму...
Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..
- Ну, трогай! - громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.
Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.
Неужели я совсем одна? - думала Серая Шейка, заливаясь слезами. - Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...
III
Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.
Неужели вся река замерзнет? - думала Серая Шейка с ужасом.
Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.
- Ах, как ты меня напугала, глупая! - проговорил Заяц, немного успокоившись. - Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...
- Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой...
- Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...
Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.
- Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, - говорил он. - А я постоянно дрожу со страху... У меня - кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.
Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, - это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.
- А, старая знакомая, здравствуй! - ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. - Давненько не видались... Поздравляю с зимой.
- Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, - ответила Серая Шейка.
- Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока - до свидания!
Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:
- Берегись, Серая Шейка: она опять придет.
И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:
- Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...
И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:
- Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам...
Лиса начала приходить каждый день - проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:
- Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи лучше сама.
Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:
- Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...
IV
По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.
Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.
- Братцы, берегитесь! - крикнул кто-то.
Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.
Эх, теплая старухе шуба будет, - соображал он, выбирая самого крупного зайца.
Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.
- Ах, лукавцы! - рассердился старичок. - Вот ужо я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: Ты, смотри, старик, без шубы не приходи! А вы сигать...
Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.
- Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! - думал он вслух. - Ну, вот отдохну и пойду искать другую...
Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползет, - так и ползет, точно кошка.
- Ге, ге, вот так штука! - обрадовался старичок. - К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить...
Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за лисы не замечали утки.
Надо так ее застрелять, чтобы воротника не испортить, - соображал старик, прицеливаясь в Лису. - А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь.
Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, - и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками, - воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.
- Вот так штука! - ахнул старичок, разводя руками. - В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитер зверь.
- Дедушка, Лиса убежала, - объяснила Серая Шейка.
- Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?
- А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...
- Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...
Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:
- А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...
Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. А старухе я ничего не скажу, - соображал он, направляясь домой. - Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...
Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.
Сердце матери. (по Д.Досжанову.)
1
Балкия не заметила, как в комнату ворвался рассвет. Она лежала с больной головой, усталая и обессиленная. Вот уже несколько ночей её мучила бессонница. Тяжёлые думы о единственном сыне, без вести пропавшем на фронте, не давали ей покоя. Вот и сегодня она ни на минуту не сомкнула глаз. Лишь под утро вздремнула, но вскоре в ужасе проснулась.
Ей приснился страшный сон. Будто бежит она, босая и растрёпанная, в одном платье по полю и зовёт сына. «Мамбет! Мамбет!» - кричит она. А кругом свистят пули, рвутся снаряды, вздымается земля.
И тут из тумана и густого дыма, словно услышав зов матери, вышел Мамбет, её желанный, любимый мальчик. Она отчётливо увидела его лицо, Мамбет поднял руку с винтовкой и с возгласом «апа!» кинулся к ней. Балкия бросилась навстречу, но неожиданно из-за спины Мамбета вынырнул огромный чёрно-серый танк, похожий на чудовищного паука-великана. Он зловеще заскрежетал, затарахтел своими гусеницами и, похоронив Мамбета под собой, прополз мимо неё. Это случилось в одно мгновение, она не смогла даже опомниться. «Мамбет! Мамбет!» - заплакала Балкия и...проснулась.
Несколько минут она не приходила в себя. От пережитого во сне стража на лбу выступил холодный пот, сердце билось учащённо, к горлу подступил горячий ком. Ей казалось, что всё произошло в действительности, что она только что потеряла своего сына и теперь уже не остаётся никаких надежд на его возвращение. Но скоро её слух уловил спокойное тиканье часов. Лишь тогда женщина поняла, что лежит у себя дома и что всё происшедшее было сном. «Япырай, какой нехороший сон!» - подумала Балкия и испуганно вздрогнула, вспомнив, как огромный танк-паук подмял под себя Мамбета...
2
Её сын всегда был внимательным и ласковым. Уходя на фронт, он утешал ал и уговаривал мать, стараясь скрыть своё волнение, стараясь казаться мужественным. И обещал писать, всегда писать. И от него долгое время приходили письма-треугольники. Потом вдруг писем не стало. Не стало после того, как он сообщил, что ожидается жаркий бой и что рота ждёт часа наступления на коварного врага.
Это последнее письмо принесло ей большие страдания. «Неужели он погиб в неравном бою? Неужели его больше нет в живых? - думала женщина. - Тогда пришла бы похоронная, но её нет, и слава Аллаху». Неизвестность, сомнения, надежды навсегда лишили её радости, покоя и сна. Она часто раскладывала письма сына на столе и вспоминала те счастливые дни, когда её малыш был рядом и когда ему ничто не угрожало. Потом бережно их складывала и прятала в самый дальний угол комнаты….
Балкия ещё долго лежала на широкой кровати, предаваясь долгим воспоминаниям. Был воскресный день и спешить было некуда. Утренний рассвет всё ярче освещал комнату, выделяя и обозначая каждую вещь. По улице проехал, сотрясая стены, первый трамвай.
Женщина нехотя встала и, ступая босыми ногами по пёстро-жёлтой дорожке, подошла к окну, раздвинула занавески. Окна её квартиры выходили на восток. Был тот момент - перед восходом солнца - когда утро оставалось ещё прозрачным, когда деревья, одетые в свой осенний наряд, казались сонными и безжизненными.
На небольшой тумбочке, что в углу, стоит застеклённая в рамке фотография Мамбета. Балкия откинула с глаз седую прядь волос и взяла портрет сына. На стекле отразились лучи восходящего солнца. Казалось, сын улыбнулся задорно и весело.
«Жеребёнок мой... Солнышко моё...» - прошептала женщина. Сердцу стало тесно в груди, на глаза навернулись горячие слёзы. Нет, она не могла смириться с тяжёлой утратой. Сын всегда был с нею. И в мыслях, и в её материнском сердце.
Надев на босу ногу галоши, Балкия вышла во двор, села на скамеечку, сделанную когда-то Мамбетом. Здесь всё напоминало о нём. И невысокая ограда, и эти вишни, за которыми он так заботливо ухаживал, и дорожка, посыпанная мелким гравием.
Стараясь отогнать от себя тяжёлые думы, Балкия мельком оглядела двор и вдруг вздрогнула. Из-под деревянного крыльца торчали человеческие ноги. Голые ноги умершего человека. Так, по крайней мере, показалось ей в первую минуту. Стало жутко, по телу прошла дрожь.
Но женщина быстро пришла в себя. За свою долгую и трудную жизнь ей суждено было видеть всякое. Она подошла поближе и начала внимательно разглядывать. Небольшие ноги подростка. Грязные, загорелые, в цыпках.
Нагнувшись, Балкия заглянула под крыльцо. Там было тесно, но сухо и уютно. Свободно могла поместиться собака. Но собаки не было, а лежал, наглухо закутав голову, незнакомый паренёк, совсем почти мальчишка. Он мирно посапывал и вовсе не был похож на мёртвого человека. «Ну и слава Аллаху!» — обрадовалась Балкия.
- Эй, кто здесь лежит? - позвала она.
Верхняя нога сразу ожила, зашевелилась, потом потянулась под крыльцо, оставляя длинными грязными ногтями следы на земле. На полпути нога вздрогнула и остановилась. Затем снова подобралась и начала звучно чесать другую.
- Почему ты молчишь? Кто же ты такой? - снова спросила Балкия.
Верхняя нога сразу же приостановила почёсывание, но вопрос её остался без ответа.
- Кто ты? Или не живой? - громче и требовательнее обратилась женщина.
Ноги пришли в движение и начали выдвигаться наружу. Показались короткие коричневые брюки, заштопанные у колен и перетянутые шнуром, загорелые, худые, полуголые бёдра. Затем - грудь с закатавшейся рубахой и обросшая голова с торчащими, как сноп соломы, волосами. Паренёк сел, вытянул за рукав пыльную фуфайку, которая только что укутывала его голову, критически оглядел себя с ног до головы. И только потом посмотрел на Балкию.
- Почему ты здесь? Откуда взялся? И назовёшь ли ты наконец своё имя? - опять спросила она.
Подросток взглянул ей прямо в глаза и, словно убедившись в надёжности незнакомки, начал рассказывать о себе. В городской больнице лежит его мать. Вчера к вечеру он приехал к ней из пригородного колхоза, где живёт, но задержался допоздна и не смог вернуться назад - опоздал на последний автобус. Знакомых в городе у него нет, родных тоже. До ночи бродил по улицам, потом зашёл в этот двор и прилёг под крыльцом, благо, что здесь не было собаки.
- А чем больна твоя мать?
- Малокровием.
- А кто есть дома кроме тебя?
- Никого.
- Где же отец?
- На войне.
- Как тебя зовут?
- Серёжа.
- Почему же не постучался в двери? Неужели боялся, что откажут в ночлеге?
- Не боялся. Просто беспокоить людей не хотел.
Паренёк понравился Валкие с первого взгляда. И своей искренностью, и всем своим видом. Её охватило чувство жалости, человеческой теплоты и участия. Хотелось подойти и прижать мальчишку к истосковавшемуся сердцу, обнять, как некогда обнимала своего сына. «Да, проклятая война! Сколько горя ты принесла! Детей разлучила с родителями, у матерей отняла сыновей, оставила ребят без отцовской ласки. Мучаешь всех - одних здесь, других там, на поле боя. И всё тебе мало. Разве не насытилась ты людскими слезами?! Разве мало тебе человеческих страданий?!» - думала женщина, глядя на не по годам повзрослевшего подростка. «Побегать бы ему ещё, порезвиться, как жеребёнку на зелёном жай- ляу, так нет - надо о куске хлеба думать и о больной матери».
Её мысли прервал Серёжа, который, попрощавшись, хотел уже уйти.
- Нет-нет! И не думай! Никуда я тебя не отпущу! - словно опомнилась Балкия. - Ты один и я одна, совершенно одна! Мой единственный сын, мой дорогой Мамбетжан, не вернулся с войны! А у тебя мать больна. Заходи, будь гостем. Хоть чаем горячим угощу. Бедняжка, вид-то у тебя какой после ночёвки в конуре.
Балкия вынесла одёжную щётку. Серёжа отряхнулся и начал чистить свои ветхие брюки и рваную фуфайку. Потом умылся, расчесал непокорные волосы. Сразу стал другим человеком.
Женщина работала счетоводом в одном небольшом учреждении. Каждое утро уходила на работу, закусив на скорую руку. Сегодня у неё всё вышло по-другому. Поставила самовар, услугами которого не пользовалась вот уже несколько лет. Из остатков муки, что берегла на крайний случай, испекла жёлтые пышные блины. И сели они с Серёжей, довольные и весёлые, за низкий казахский столик пить чай.
- В выходные дни и вечером после работы я всегда дома. Приходи почаще. Если запоздаешь, можешь переночевать. Буду всегда рада, - угощая гостя, говорила Балкия.
И впервые за много дней материнские глаза светились радостью и счастьем, а в комнате было по-праздничному весело и торжественно.
3
С тех пор Серёжа часто приходил в этот гостеприимный дом. Для Бал- кии каждый его визит был праздником. Она забывала о своём горе и всё тепло, всю ласку своего большого сердца отдавала подростку. Она радостно его встречала, каждый раз подробно расспрашивала о здоровье матери, о письмах отца, старалась угостить повкуснее. Для неё было удовольствием стирать и штопать его бельё. Будь Мамбетжан дома, как был бы он ей благодарен. Ведь он так любил делать людям добро!
Вспомнив, что у сына в чемодане осталась кое-какая одежда, Балкия вытащила её и пригодное дала Серёже. Подстриженный, в чистой поштопанной одежде, подросток выглядел настоящим парнем. И, глядя на него, она сияла от счастья.
Серёжа отвечал женщине той же заботой и лаской. Бывало, придёт, когда её нет дома, возьмёт ключ в условном месте, откроет квартиру - и давай хозяйничать! Если нет воды - принесёт, нет дров - нарубит, подметёт, вымоет пол, вычистит до блеска посуду.
Немного замкнутого, но честного и отзывчивого юношу Балкия очень полюбила и привязалась к нему, как к родному сыну. Полюбил её и Серёжа. Его мать почти всегда болела. И в этой чуткой женщине он находил то, что не могла, не имела возможности дать больная мать.
Однажды Серёжа пропал надолго. И сам не появлялся и весточки не подавал. Балкия вся извелась, ожидая его. С утра до ночи ждала. Без конца выглядывала в окно, выходила на улицу, подолгу стояла у трамвайной остановки. «Почему его нет? Куда же он делся? - тревожилась она. - Может, с матерью что случилось? Или самого беда какая постигла?» Плохие мысли лезли в голову. И опять ей стало грустно и одиноко в комнате. И опять сердце разрывалось от невыносимой тоски по сыну.
Было воскресенье. Балкия не торопилась вставать. Да и куда ей спешить? Кому она нужна? Нашла было второго сына, да и тот куда-то пропал. Забыл, наверное, старую. А может, своя мать выздоровела. Ну и слава Аллаху! Лишь бы всё благополучно у него было...
В дверь постучали. Слышится негромкий говор двух людей. Один голос вроде бы знакомый. Балкия поднялась и подошла к двери. Выглянула в окошко, что рядом, и чуть не упала от радости: на крыльце стояли Серёжа и незнакомая женщина. Щупленькая, худенькая, вся в чёрном. Серёжа её поддерживает. Кажется, отнимет руку - она упадёт. «Кто же она? Уж не мать ли? Ну конечно! Как я сразу не могла догадаться?»
Балкия открыла дверь.
- Доброе утро! - поздоровалась незнакомка и протянула свою лёгкую руку. - Воронова Надежда Ивановна. Мама Серёжи. Мне сын рассказал. Большое спасибо за всё.
Надежда Ивановна выложила на стол подарки для Балкии: виток колбасы, булку белого хлеба, сахар, сливочное масло - настоящее богатство по тем временам.
- Да что вы, куда это мне? Сами ведь больны! - запротивилась Балкия.
- Кушайте на здоровье. Это сослуживцы принесли, когда узнали, что я больна. Вот и путёвку бесплатную достали в санаторий. Завтра уезжаю. Может, поможет. А вас попрошу... Серёжа один у меня остаётся... Нет больше у нас никого...
- Поезжайте, - лечитесь. О сыне не беспокойтесь. Разве я его брошу? Как Ж6 Я без него?!
Опять, как в тот раз, шумел самовар, и они сидели за праздничным круглым столом. Две матери, как старые знакомые, оживлённо беседовали. Они с полуслова понимали друг друга, рассказывали о своей жизни, о своих сыновьях.
Серёжа за весь вечер не проронил ни слова. Он слушал матерей. Как много у них общего! И мысли, и желания, и мечты. Наверное, все матери мечтают об одном - о счастье своих детей.
Вскоре Надежда Ивановна устала. Её мучила одышка, и она говорила задыхаясь.
- При ходьбе сильно голова у меня кружится. Еле добралась до трамвая. Очень уж хотелось поблагодарить и увидеть доброго человека, который помог моему Серёже в трудную минуту. Теперь я довольна.
Балкия заботливо укутала её и уложила в постель.
Так и остались они вдвоем: Серёжа и Балкия. Дни сменялись длинными ночами. Кровавая война всё ещё не кончалась. От Мамбета по- прежнему не было писем. И неизвестно, как трудно пришлось бы старой женщине, не будь рядом Серёжи. Юноша возмужал, повзрослел. Одно его беспокоило: учиться в школе дальше он не мог, надо было приобретать какую-нибудь специальность и помогать апе, как называл он теперь Балкию. Серёжа решил поступить в школу ФЗО. Но раскрывать свою тайну он не хотел, знал - не одобрит женщина его выбора, не пожелает признать, что нуждается в помощи. И всё-таки он остался верным своему решению.
Как-то в морозный зимний вечер после долгого отсутствия Серёжа снова появился в маленьком домике у трамвайной остановки. Балкия не верила своим глазам: неужели это Серёжа? Вытянулся, подрос, похорошел. Этакий здоровый парень. На нём чёрная шинель, поблёскивает железная пряжка кожаного ремня, на голове - аккуратная тёмная фуражка. По-взрослому стучит каблуками тяжёлых ботинок.
- Никак Серёжа? Откуда ты? - радостно воскликнула Балкия.
- Я! - гордо ответил юноша.
- Балам-ау, одежда... Где ты взял её? Кем ты стал?
- Учусь в школе ФЗО.
- Так вот почему тебя долго не было! Зачем же скрыл от меня? Разве от матери бывают тайны?
- Боялся, что не разрешите...
- А Надежда Ивановна? Как она? Есть ли письма?
- Мама умерла...
С тех пор прошло несколько лет. Теперь уже Серёжа и Балкия не разлучались. Давно закончилась война. Не вернулся Мамбет. Не вернулся отец Серёжи. Горе постепенно забывается. Время притупляет боль. Жить стало легче. Люди изменились. На лицах появлялись улыбки.
У Балкии-апай был ещё один большой праздник в жизни: Серёжа, её сын, женился. Он кончил ФЗО, потом институт, получил диплом инженера, стал работать начальником цеха на одном заводе.
На вечер собрались друзья, товарищи, соседи. Все радовались счастью старой женщины и её сына. Много пожеланий было высказано, много хороших слов. Вспомнили Надежду Ивановну, отца Серёжи и Мамбета, которых погубила война и которым не суждено было присутствовать на этом тое.
- Пусть молодые будут счастливы!
- Да сгинет навеки война, принесшая людям столько страданий!
По лицу Балкии-апай текли слёзы. Но это были слёзы радости.
Ю.Яковлев. Багульник.
ШКОЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ
Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть - другого слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой - разгонял сон - и уставлялся на доску. А через несколько минут снова зевал.
- Почему ты зеваешь?! - раздраженно спрашивала Женечка.
Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. Зевал же потому, что всегда хотел спать.
Он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутиками, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду.
Он каждый день менял воду.
И Женечка посмеивалась.
Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали. И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.
- Багульник! - буркнул он и пошел прочь.
Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них, молчальников, на уме: плохое или хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя тоже не любят молчальников, потому что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами.
Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста молчальник. Подумали, что он волшебник.
И Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.
Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы - конским хвостиком, воротник - хомутиком, каблуки с подковками. На улице ее никто не принял бы за учительницу. Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвостик развевается на ветру. Остановись, лошадка! Не слышит, бежит... И долго еще не затихает стук подковок...
Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?
Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой - под короткой шерстью тигрового окраса перекатывались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась - над глазами и на груди теплились коричневые подпалины.
Чего только не говорили про Косту ребята!
- У него ирландский сеттер, - утверждали они. - Он охотится на уток.
- Ерунда! У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков. Мертвая хватка! - говорили другие.
Третьи смеялись:
- Не можете отличить таксы от боксера!
Были еще такие, которые спорили со всеми:
- Он держит трех собак!
На самом деле у него не было ни одной собаки.
А сеттер? А боксер? А такса?
Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей головешкой.
Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось.
Когда родители возвращались с работы, они заставали сына за столом: он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?
Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти.
Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая. Огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалявшейся шерсти проступали худые, острые лопатки, большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы - ударом такой лапы можно сбить любую собаку - ступали медленно, устало.
С этой собакой Косту никто не видел.
Звонок с последнего урока - сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления.
И как зорко ни следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.
Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развивался на ветру.
Она превратилась в следопыта.
Коста добежал до своего дома - он жил в зеленом облупившемся доме, исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда.
Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.
Коcта нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он по звонил в дверь. И сразу послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай, а царапанье в барабанную дробь.
- Тише, Артюша, подожди! - крикнул Коста.
Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на Коету, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок.
- Артюша, перестань!
Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и оба - мальчик и собака - с неимоверной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Коету в шоку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой.
Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек.
- Вот, погуляли. До завтра" - сказал Коста.
- Спасибо. До завтра.
Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер.
Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних лапах, а передние положил на перила.
Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.
- Атилла! - крикнул Коста, вбегая во двор.
Боксер тихо взвизгнул. От счастья.
Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону.
Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь.
Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.
Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден.
Он ел жадно, но при этом посматривал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.
Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку.
Отвисшие углы большого черногубого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу.
Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
- Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть помирай с голоду! Люди ведь!..
Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста.
Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой. Но Коста спешил дальше.
В соседнем доме на первом этаже болел парнишка - был прикован к постели. Это у него была такса - черная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика.
- Она тебя ждет, - говорил больной.
- Ты болей, не волнуйся, - слышался голос Косты.
- Я болею... не волнуюсь, - отвечал больной. - Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.
- Мне не надо велосипеда.
- Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.
- Приду утром, - после некоторого раздумья отвечал Коста. - Только очень рано, до школы.
- Тебе не попадет дома?
- Ничего... тяну... на тройки... Только спать хочется, поздно уроки делаю.
- Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.
- Выкарабкивайся.
- Ты куришь? - спрашивал больной.
- Некурящий, - отвечал Коста.
- И я некурящий.
- Ну, мы пошли... Ты болей... не волнуйся. Пошли, Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой.
И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный Лапоть.
Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пламеннорыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей захотелось заговорить с Костой. Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.
Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница - Женечка - снова пряталась за спины прохожих. Дома уменьшились ростом. А спин стало совсем мало.
Город кончался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук.
И тут показалось море.
Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и неторопливо наползали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены.
Море выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.
Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией горизонта.
Коста шел по берегу, наклоняясь вперед - против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешанные на кольях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем.
Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака.
Она стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Ее взгляд. был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря.
Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов. Он провел рукой по свалявшейся шерсти.
Собака едва заметно шевельнула хвостом. Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой хлеб и остатки своего обеда, завернутого в газету. Собака не оживилась, не выказала никакого интереса к пище. Коста стал ее поглаживать и уговаривать:
- Ну поешь... Ну поешь немного...
Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к морю.
Женечка притаилась за развешанными сетями, словно попалась, запуталась в них и не могла вырваться, чтобы тоже гладить собаку и говорить:
"Ну поешь... Ну поешь хоть немного!"
Коста взял кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и громко, как человек, и принялась медленно жевать хлеб.
Она ела без всякого интереса, как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа... Она ела для того, чтобы не умереть. Ей нужно было жить. Она ждала кого-то с моря.
Когда все было съедено, Коста сказал:
- Идем. Погуляем.
Собака снова посмотрела на мальчика и послушно зашагала рядом. У нее были тяжелые лапы и неторопливая, полная достоинства львиная походка. Следы заполнялись водой.
В море переливались нефтяные разводы. Будто где-то за горизонтом произошла катастрофа, рухнула радуга и ее обломки прибило к берегу.
Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка - следопыт Женечка - слышала, как Коста говорил собаке:
- Ты хороший... Ты верный... Пойдем со мной. Он никогда не вернется. Он погиб. Честное пионерское.
Собака молчала. Она и не должна была говорить. Она не отрывала глаз от моря. И в который раз не верила Косте. Ждала.
- Что же мне с тобой делать? - спросил мальчик. - Нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь надо уйти.
Рыбацкая сеть кончилась. И Женечка как бы выпуталась из сетей.
Коста оглянулся и увидел учительницу. Она стояла на песке босая, а туфли держала иод мышкой. И сквозняк, тянувший с моря, развевал ее волосы, собранные в конский хвост.
- Что же с ней делать? - растерянно спросила она Косту.
- Она не пойдет. Я знаю, - сказал мальчик. Он почему-то не удивился появлению учительницы. - Она никогда не поверит, что хозяин погиб...
Женечка подошла к собаке. Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на нее.
- Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю. Она очень тощая... Сперва укусила меня.
- Укусила?
- Руку. Теперь все зажило. Я йодом смазывал.
Пройдя еще несколько шагов, он сказал:
- Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать.
Море потускнело и стало как бы меньше размером. Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было забраться. Собака подошла к воде. Села на песок. И снова застыла в своем вечном ожидании...
Обратно учительница и ученик шли быстро, но, когда берег кончился, за дюнами Женечка остановилась и сказала:
- Я не могу так быстро. У меня каблук сломался.
- Мне надо бы поспеть до их прихода, - отозвался Коста.
- Тогда иди.
Коста внимательно посмотрел на Женечку и спросил:
- А как же вы?
- Я дойду не спеша.
- Может быть, вбить гвоздь? У вас есть гвоздь?
- Не знаю. - Женечка протянула ему туфлю.
Он покрутил каблук, как зуб, который шатается. И постучал камнем.
- Вот.
- Теперь лучше, - сказала Женечка, надевая туфлю.
Но шла она прихрамывая, наступая на носок, чтобы каблук держался.
На другой день в конце последнего урока Коста уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову на согнутый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он спит. Потом кто-то захихикал.
И Женечка увидела, что он спит.
- Тихо, - сказала она. - Совсем тихо!
Когда она хотела, все было как полагается. Тихо так тихо.
- Вы знаете, почему он уснул? - шепотом произнесла Евгения Ивановна. Я вам расскажу... Он гуляет с чужими собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать.
Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел громко и протяжно.
Но Коста не слышал звонка. Он спал.
Евгения Ивановна - Женечка - склонилась над спящим мальчиком, положила руку ему на плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.
- Звонок с последнего урока, - сказала Женечка, - тебе пора.
Коста вскочил. Схватил портфель. И в следующее мгновение скрылся за дверью.
А. Фет
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь - но только песня зреет.
А. Плещеев. Весна
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждет чего-то,
Как будто счастье впереди
И унесла зима заботы!
Все лица весело глядят.
"Весна!"- читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь - лишь тяжкий труд и горе.
Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят - кто больше всех
Природы любит обновленье!
Ф. И. Тютчев. Весенняя гроза.
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит...
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам...
Ты скажешь: ветреная Геба,1
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!
Ф. И Тютчев . Весна.
Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины,
И сердце как ни полно ран,
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены —
Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!
Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле,
Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.
Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею —
О том не ведает она:
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея,
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.
Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет,
Благоухающие слезы
Не о былом аврора льет —
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.
Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!
А. Толстой
Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.
Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет;
Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?
Трудно жить тебе, мой друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль...
_______________
О пожди, пожди еще немного,
Дай и мне уйти туда с тобой...
Легче нам покажется дорога -
Пролетим ее рука с рукой!..
Примечание: в окончательной авторской редакции последняя строфа отсутствует
Внеклассное чтение.
А. Шынбатыров. Урок чуткости.
День выдался тёплый, погожий. Даже не верилось, что ещё вчера мела пурга. На большой перемене мы всем классом выбежали во двор. В это время из-за холма показалась чья-то долговязая фигура. Я пригляделся и по походке узнал нашего математика - Амирбек-агая. Такой высоченный, как дядя Стёпа. Он шёл быстрым размашистым шагом. Левой рукой придерживал стопку книг, зажатых под мышкой, а правая резко взлетала до подбородка, словно у бегущего лыжника. Он подошёл ко мне.
- Твой одноклассник Терликбай уже два дня не ходит в школу. Наверное, заболел. Я тебя прошу, может, ты его проведаешь, хорошо?
Если честно, то мне не хотелось идти к Терликбаю. Никто в классе с ним особенно не дружил: был он замкнутым. И учился неважно. Кроме того, меня раздражала его медлительность. Вечно не успевает записать домашнее задание и всё время списывает у меня. Но у него красивый почерк. Одевался он, как все. На нём была латаная-перелатаная старая фуфайка. Видимо, с отцовского плеча. Да и что тут удивительного. Всего пять лет минуло с тех пор, как кончилась война.
- Ты чего молчишь?
- Но я же с ним не дружу, может, кто-нибудь из класса пойдёт, - неуверенно ответил я.
- Ты пойми, никто не заставляет дружить тебя. Но ведь он твой одноклассник, сосед по парте. Поэтому ты должен быть внимательным и добрым, заинтересовать его чем-нибудь, - убеждал меня учитель.
- Да что его может интересовать, - усмехнулся я. - Ходит вечно угрюмый, ни с кем не разговаривает, ничем не интересуется.
- Ах вот оно что! И ты уверен, что Терликбай ничем не интересуется? Именно поэтому сходи к нему обязательно, Сеитжан.
Терликбай жил возле конторы в глинобитном доме, окружённом невысоким забором. Калитка была приоткрыта. Я вошёл и увидел в глубине двора навес, под которым какой-то парень стругал деревянный брусок.
- Здравствуйте! - обратился я к нему. - А Терликбай дома?
Он обернулся и кивнул головой. Затем указал на чулан.
- Это ты, Сеитжан! - удивлённо воскликнул Терликбай, когда я вошёл в чулан.
- Да, — с важным видом произнёс я и небрежно протянул ему руку. - Вот, пришёл проведать тебя.
- Что нового в школе? - спросил Терликбай.
- Всё по-старому. Зашёл узнать, что с тобой. Случайно, не притворяешься? - недоверчиво покосился я на него.
- Зачем ты так! - обиделся Терликбай. - Я болею.
- Что-то не похоже, - не унимался я. - Если человек болеет, то ему надо лежать в постели и лечиться, а ты расхаживаешь.
- Некогда мне разлёживаться. Брату старшему помогаю, - с гордостью сказал Терликбай. Только сейчас я заметил у него в руках долото.
- Мастеришь? - спросил я у него, кивком указав на инструмент.
- Понимаешь, соседка попросила сделать ей табуретку. Вот мы и решили помочь. Немного осталось. Брат последнюю поперечную планку стругает, а я углубления для неё на ножке выдалбливаю. Ты подожди минутку, хорошо? Я мигом! - сказал он мне и принялся за работу.
И куда только его медлительность подевалась, ума не приложу. Движения его стали быстрыми и точными. Я не отрываясь смотрел, как красиво работал Терликбай. Наконец он отложил молоток и долото в сторону и сказал:
- Ты извини, что я тебя сразу в дом не пригласил. Не люблю откладывать работу. Пойдём!
Мы подошли к брату Терликбая.
- Агай, я закончил работу. Можно, я посижу с Сеитжаном?
Брат в ответ молча кивнул головой и принялся зачищать ножку дальше. «Наверное, брат у него немой», - догадался я.
Мы вошли в дом, и я невольно замер на месте. Комната была обставлена мебелью. Я впервые тогда увидел диван, шкаф для посуды, с резными узорами. А ведь в ту пору в аулах мебель была большой редкостью. Нет, не о столах и табуретках шла речь. Этого добра хватало. Но вот шкафы и диван были тогда для жителей аула в диковинку. И неудивительно: только закончилась война, и жизнь входила в свою колею.
- Правда, красиво? - перехватив мой удивлённый взгляд, спросил Терликбай.
- Да-а, - не находя слов от восхищения, ответил я.
- Это всё мы с братом своими руками сделали, - с гордостью сказал Терликбай.
- Вы молодцы! - похвалил я от души.
- Брат с детства научил, - с теплотой в голосе произнёс Терликбай. - Ты ещё не знаешь, какие золотые руки у моего брата! - и провёл меня в другую комнату.
Здесь были вещи, предназначенные для хозяйства: сундуки, ступка, доски для резки мяса, скалки.
- И всё это он сделал своими руками? - спросил я.
- Да ты таких вещей в нашем сельмаге и не увидишь, - обиделся на меня Терликбай.
- Наверное, и ты ему помогал? - спросил я.
- Мы вместе всё делали. Он меня многому научил. Ты, наверное, заметил, что он немой. Жалко его, - тяжело вздохнул Терликбай и вдруг закашлял. Кашель у него был резкий и, видимо, причинял ему сильную боль. Лицо его исказилось, и он прилёг на диван. Я сел рядом и стал разглядывать фотографию усатого солдата. Это была самая дорогая реликвия тех времён.
- Счастливый ты, Сеитжан! Как я тебе завидую! У тебя и мама, и папа живы. А у меня... - Терликбай осёкся, и в глазах его блеснули слёзы.
Я, утешая, положил руку ему на плечо. Мы порой равнодушны к своим товарищам. Не интересуемся, чем они живут, не предлагаем помощи.
Терликбай продолжал свой печальный рассказ:
Мой отец погиб на войне. В тот день, когда получили похоронку, мой старший брат онемел. Кому только не показывали брата: и врачам, и даже знахарю. Но он так и не заговорил.
Потом тяжело заболела мама и зимой умерла. Одни мы с братом остались. Правда, соседка тётя Асия помогает. Заботится о нас, как родная мать.
Я только сейчас понял, почему Терликбай такой замкнутый и угрюмый. Это оттого, что некому его приласкать, утешить. К горлу подкатился тяжёлый ком, и так мне стало жалко Терликбая и стыдно за своё равнодушие, даже жестокость к своему однокласснику.
Вдруг Терликбай посмотрел на меня и спросил:
- Скажи мне правду, Сеитжан! Ты сам ко мне пришёл или кто-то тебя прислал?
Поймав на себе его испытующий взгляд, я растерялся и промолчал. Что же ему ответить? Соврать? Как говорится: «Лучше горькая правда, чем красивая ложь!» Но К8.К Ж6 быть с «горькой правдой»? Не могу же я сказать: «Меня прислал Амирбек-агай! Я не хотел идти». После такого признания Терликбай и слушать меня не станет. Этого я боялся больше всего.
- Может, тебя Амирбек-агай попросил? - спросил он.
- С какой это стати! Что я, сам не могу к тебе зайти? Тебя же два дня в школе нет. Вот и забеспокоился, - убедительно сказал я. Мне было неловко за свой невольный обман.
- Не сердись, Сеитжан! - спохватился он. - Я ведь тебе не друг, вот и засомневался. Спасибо тебе, Сеитжан. Извини, но мне надо доделать табурет, а то скоро стемнеет, - улыбнувшись, добавил Терликбай.
- Мне тоже пора. Дома - куча дел. А ты поправляйся быстрее. Я буду тебя ждать, - подбодрил я его и поднялся с дивана.
Он проводил меня до калитки и пожал на прощание руку.
Я нерешительно потоптался на месте, а потом набрался смелости и попросил:
- Терликбай! Научи меня плотничать.
- Пожалуйста! Заходи после уроков.
Возле школы я встретил Амирбек-агая.
- Проведал одноклассника? - спросил он.
- Агай, Терликбай, оказывается, мастер на все руки, а я об этом не знал. Но он ещё сильно кашляет. Наверное, его надо отвезти в больницу.
- Да я уже решил послезавтра отвезти его в город, - задумчиво произнёс он и огорчённо покачал головой. А затем вдруг грустно улыбнулся и сказал:
- Вот видишь, как ты обрадовал Терликбая.
Дома я обо всём рассказал папе с мамой. Папа сказал:
- Сеитжан, ты должен поблагодарить учителя за урок чуткости, что он преподал. Теперь ты не будешь судить о людях, не зная их.
Я понял это и запомнил на всю жизнь.
Внеклассное чтение.
С. Бегалин. Сеид.
1
На берегу озера Балхаш расположились кочевые фермы богатого животноводческого колхоза «Енбек». Сюда несёт живительные воды ледников Тянь-Шаня река Или. Приближаясь к Балхашу, река растекается на сотни рукавов, образуя десятки маленьких озёр. Летом берега их покрываются густыми зарослями камыша, и озерки превращаются в огромный птичий базар. Здесь множество водоплавающей птицы, в кустарниках по берегам гнездятся куропатки, рябчики, фазаны. Водятся здесь и пушные звери и кабаны, изредка встречаются даже тигры. Поляны же, покрытые сочной высокой травой, - замечательное место для выпаса скота.
В этом году весна выдалась ранняя. Фермы рано откочевали с зимних пастбищ и поставили свои юрты у самых зарослей камыша. Впереди было лето, полное труда и забот. В колхозе росли сотни жеребят, телят, ягнят, верблюжат, за ними нужен был внимательный уход.
Фермы соревновались между собой. И первое место занимала та, которой заведовала Гайни. На этой ферме выращивались верблюды.
Один из верблюжат родился в этом году больным. Гайни удалось сохранить жизнь малышу, но он был очень слаб, требовал особого ухода. Ухаживать за верблюжонком взялся сын Гайни - десятилетний Сеид.
Каждый день после уроков Сеид прибегал на ферму. Хотя весной у него было много дел, мальчик с радостью взялся ухаживать за больным верблюжонком. Он был совсем слабым и беспомощным, этот малыш. И может быть поэтому он казался Сеиду милее других. Сеид назвал его Ботакан. По-казахски это значит «Верблюжонок».
Конечно, Сеиду, как и другим, хотелось поиграть на улице. Но стоило ему услышать голос своего питомца, как он бросал игры и со всех ног бежал к нему.
Проходили дни. По утрам верблюжата с мамашами отправлялись на пастбище. Но Сеид всё ещё не решался отпускать Ботакана, хотя малыш уже бегал по траве и даже пытался прыгать.
Верблюдица Бозинген несколько раз в день приходила с пастбища в аул, чтобы покормить своего детёныша. Обычно пастух Ажибек отгонял её в сторону аула, а дальше она шла одна и так же возвращалась на пастбище.
В этот день Бозинген, по обыкновению, пришла в полдень в аул. Сеид подвёл к ней верблюжонка, а сам уселся рядом на траве. Ботакан проворно сосал молоко. Оно пенилось и пузырилось вокруг его рта. Он весело махал маленьким хвостиком и забавно подпрыгивал. Наконец верблюжонок наелся. Сеид отвёл его в тень юрты и привязал за повод к приколу.
Наступал вечер. Солнце клонилось к горизонту. «Ботакану давно пора есть! А Бозинген всё не идёт!» - беспокоился Сеид. Он выбежал из аула, забрался на ближнюю горку и стал смотреть в сторону пастбища.
Бозинген не было видно. А жалобный голос голодного верблюжонка доносился и сюда. Сеид вернулся к юрте. Ботакан ревел всё громче. Сеид не знал, что делать. Вот и коровы вернулись с пастбища. Доярки с вёдрами пошли доить их. Вскоре пришла домой Гайни. Мальчик со слезами рассказал, что Бозинген до сих пор не приходила. Гайни тоже заволновалась, но, чтобы успокоить сына, сказала:
- Не беспокойся, мой светик! Видно, пастух сегодня очень далеко погнал стадо. Ничего, скоро пригонит.
Сеид опять взобрался на горку. Наконец-то вдали показались чёрные точки. Это шло верблюжье стадо. Мальчик побежал навстречу.
Пастух Ажибек очень удивился, когда Сеид рассказал, что Бозинген не приходила. В обычное время он, как всегда, отогнал верблюдицу в сторону аула.
Пастух попросил Сеида помочь подпаску гнать стадо, а сам отправился искать Бозинген.
Сеид со стадом приближался к аулу. И тут мальчик увидел своего дядю, знаменитого охотника Жаикбая. К седлу его было привязано около десятка уток. Сеид подбежал к дяде, торопливо поздоровался с ним, поздравил с добычей и сразу же спросил, не попадалась ли ему Бозинген.
- Нет, не видал, - сказал Жаикбай.
Уже совсем стемнело, когда приехал Ажибек.
- Объехал всё вокруг, - сказал он, - нигде нет. Правда, я видел след верблюда. Он вёл в заросли камыша. Только стемнело, всё равно ничего не найдёшь. Придётся подождать до утра.
Сеид с грустью взглянул на мать:
- Что же делать с верблюжонком?
- Не печалься, сынок, - сказала Гайни, - утром Бозинген найдётся. А сейчас давай накормим твоего Ботакана.
Гайни велела Сеиду подвести малыша к тёмно-серой верблюдице, а сама закрыла ей глаза. Ботакан принялся сосать. Скоро он наелся, успокоился, подобрал под себя ноги и уснул.
Спозаранку Ажибек снова отправился на поиски Бозинген.
Печальным было его возвращение. Пробираясь по следу верблюда в глубь зарослей, он обнаружил на поляне убитую Бозинген, наполовину съеденную каким-то зверем.
- Такой прожорливый зверь, и следы огромные! Наверно, тигр, - заключил свой рассказ Ажибек.
Слух о тигре быстро разлетелся по аулу. Уже много лет тигры не появлялись в этих местах.
Вечером Сеид долго не мог уснуть. Неужели люди не накажут тигра? Неужели и дядя Жаикбай его боится? Ведь он такой знаменитый охотник! Он может догнать на своём скакуне волка и убить его одним ударом соила. Прошлой зимой он убил так шесть волков.
«Жалко, что я ещё маленький! - думал Сеид. - А то пошёл бы вместе с джигитами на тигра. А вдруг тигр придёт в аул? Страшно!.. Нет... здесь люди, здесь дядя Жаикбай... Не пустит его в аул!»
Мальчик заснул, когда в щели юрты уже заглянула поздняя луна.
Утром Сеид и его мать пошли на соседнюю ферму. Там в юрте заведующего фермой Рахима собралось несколько охотников. Был здесь и Жаикбай. Джигиты совещались, как избавиться от непрошеного гостя.
- Уже давно в наших местах не было слышно, чтобы тигры нападали на скот. Но раз уж тигр появился, сам он отсюда не уйдёт. Надо его как можно скорее убить, - говорил Жаикбай.
И Жаикбай предложил способ охоты на тигров, который применялся на берегах Балхаша в старое время.
- Надо пойти на него с юртой, - сказал он. - Ведь у нас только пять- шесть двустволок, а идти на тигра открыто с ружьём опасно. Другого оружия у нас нет. Но и ждать мы не можем - много бед может натворить этот хищник. Поэтому я предлагаю идти с юртой. Сейчас, не теряя времени, будем готовиться. К рассвету надо быть на месте.
Сеид целый день бегал из одной юрты в другую. Он смотрел, как охотники чистили ружья, готовили картечь из свинца и заряжали патроны. Потом они выбрали небольшую, но крепкую юрту, собрали много верёвок и арканов.
Только к вечеру Сеид прибежал домой. Около юрты на траве лежал Ботакан. Верблюжонок увидал Сеида и потянулся к нему своей тонкой длинной шеей. Сеид стал гладить малыша. Ботакан смотрел на мальчика блестящими чёрными глазами и тихо, жалобно стонал. Сеиду стало до слёз жалко Ботакана. Ему казалось, что малыш жалуется на то, что у него теперь нет матери.
2
Поужинав, охотники при свете луны навьючили на верблюдов остов юрты. Каждый взял в руки ружьё.
Всё как будто было в порядке. Охотники ждали команды Жаикбая. Но тот почему-то медлил и искал глазами Сеида.
- Друзья, нужно решить ещё один вопрос. Я не хотел говорить при Сеиде. Чтобы поскорее покончить с тигром, надо заманить его чем-нибудь. Хорошо бы взять осиротевшего верблюжонка. Он маленький, и его легко можно поставить в юрте. К тому же он будет кричать, звать мать. Для тигра лучшей приманки не найти.
Жаикбай вместе с Алимбаем направились в юрту Гайни. Гайни сразу поняла, зачем пришли охотники.
- Тише, тише, не разбудите Сеида, - шепнула она и вышла из юрты.
Гайни старалась неслышно отвязать верблюжонка.
Но стоило Ботакану закричать, как Сеид проснулся. В один миг мальчик вскочил с постели и оказался около Ботакана.
- Что случилось, апа? - спросил он мать.
- Ничего, сынок! Просто я хотела его ещё раз покормить. Ты иди, детка, спи!
- Нет, мама, я сам отведу его к верблюдице, - сказал Сеид и взял повод Ботакана. Но тут он увидел дядю и Алимбая. Мальчик почувствовал что-то неладное.
- Дядя Жаикбай, что вы хотите сделать с Ботаканом? - спросил он со слезами в голосе.
Дядя молчал, но Алимбай не вытерпел:
- Долго мы ещё будем стоять? - заговорил он. - Время-то уходит. Бери верблюжонка и пошли! - И он сам взял Ботакана за повод.
Сеиду стало всё ясно. Он крепко зажал в руке конец повода и побежал за Алимбаем.
- Оставьте Ботакана, - кричал он, - а то его тоже съест тигр! Оставьте!
- Что ты, сынок! - сказала Гайни. - Разве Жаикбай допустит тигра к Ботакану? Просто его берут, чтобы он своим криком приманил тигра. Он будет в юрте вместе с охотниками.
- Тогда я тоже пойду с Ботаканом! Возьмите и меня!
Жаикбай вопросительно взглянул на Гайни.
- Если это не опасно... - ответила она.
- Хорошо. Возьмём. Иди, собирайся! - сказал Жаикбай.
Охотники тронулись в путь. Сеид сидел на одной лошади с дядей, позади него. Повод Ботакана мальчик привязал к шее верблюда, навьюченного юртой, и малыш спокойно шагал рядом с ним.
Стояла тихая лунная ночь. Небо пестрело звёздами. Лунный свет слабо освещал местность. Заросли кустарника издали казались пасущимся стадом. В камышах время от времени резко и отрывисто кри-
чала какая-то ночная птица. Тишина ночной степи казалась таинственной. Сеид понимал, что они едут охотиться на сильного, опасного зверя. Но он знал также, что его дядя Жаикбай - смелый и опытный охотник.
На поляне, окружённой зарослями камыша, охотники остановились. Они быстро сняли с верблюда остов юрты и отправили верблюда обратно в аул. Сами же принялись собирать юрту. Соединив все части остова, они туго стянули его арканами и верёвками, чтобы он не рассыпался от прыжка тигра.
Потом Жаикбай сказал:
- Тигр всегда приходит доедать свою добычу. И сейчас, как только займётся заря, он вернётся на ту поляну, где растерзал Бозинген. Это недалеко отсюда. Лошадей мы оставим здесь, а юрту отнесём на поляну, поставим её, а сами притаимся внутри юрты. Тигр услышит голос верблюжонка, бросится на юрту. Он легко мог бы разнести её, но её остов накрепко стянут арканом, да и мы не будем дремать. Стрелять будете в голову и в грудь. А сейчас проверьте ружья!
Охотники, проверив ружья, подняли и понесли остов юрты. Сеид шёл сзади, вёл на поводу своего верблюжонка.
Наконец охотники вышли на поляну, где тигр разорвал Бозинген. Когда Сеид увидел то, что от неё осталось, он чуть не заплакал. Мальчик обнял за шею своего Ботакана и прижал к груди его голову.
Охотники поставили юрту. Потом вошли в неё и ввели верблюжонка. Ещё раз проверив ружья, они стали ждать. Никто не разговаривал. Было так тихо, что слышен был каждый шорох в камышах.
Жаикбай шепнул Сеиду:
- Отпусти верблюжонка, пусть ревёт!
Мальчик перестал гладить Ботакана, и далеко по камышам разнёсся жалобный голос верблюжонка.
Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец небо порозовело. Густой камыш оживился. Слышалось кваканье лягушек, пение птиц, призывные крики уток, гоготанье диких гусей. Над головами закружились стаи чирков и уток. Жаикбай подал охотникам знак не шевелиться и быть готовыми. Охотники замаскировались камышом и притаились. Только верблюжонок стоял во весь рост и жалобно кричал.
Вдруг вдали зашуршал камыш. Охотники насторожились. Шорох приближался. И вот на поляне появился самый сильный и страшный из хищников - тигр. Страшно было смотреть на его огромное чёрно-жёлтое полосатое туловище.
Тигр увидел на месте своей вчерашней охоты странное сооружение. Он остановился и стал принюхиваться.
И вдруг тигр заметил в юрте верблюжонка. Он ударил о землю своим могучим хвостом и одним прыжком очутился возле юрты. Верблюжонок отчаянно заревел и шарахнулся в сторону. В следующий миг тигр сделал ещё один прыжок. Остов юрты затрещал. Одновременно грянуло несколько выстрелов. Сеид крепко прижал к себе Ботакана и зажмурил глаза. Раздалось ещё несколько выстрелов - и всё затихло.
Сеид медленно, с опаской раскрыл глаза. Бедный верблюжонок совсем обессилел от страха и не мог даже кричать. Он опустился на землю и молча лежал, прижавшись к ней. А тигр висел на остове юрты, вцепившись в него клыками. Из юрты было видно его огромное бело-жёлтое брюхо. Длинный хвост свисал до самой земли, конец его изредка шевелился. Жаикбай подошёл к тигру и ударил его охотничьим ножом. Тело тигра едва вздрогнуло.
- Готово! - сказал Жаикбай. - Открывайте дверь.
3
Солнце стояло уже высоко, когда охотники вернулись домой. Все жители аула выбежали им навстречу. Мальчики с завистью смотрели на Сеида. Он сидел на коне вместе с дядей, гордый и радостный. Под ними на седле лежала громадная полосатая шкура. Рядом с конём шёл на поводу верблюжонок.
Гайни выбежала навстречу сыну.
- Ой, Сеид-джан! - воскликнула она. - Поздравляю тебя с добычей, родной мой!
Мальчик соскочил с коня и побежал в юрту, а за ним и верблюжонок.
- Надо накормить Ботакана, апа. Он очень проголодался.
- Конечно! Я нарочно не пустила на пастбище верблюдицу. Она уже понемногу привыкает к нему.
Мальчик повёл верблюжонка к новой матери. С этого дня все в ауле стали звать Сеида Батыр Сеид. По-казахски это значило «Сеид-богатырь».
Тема раздела: Мир приключений и фантастики
Е. Л.
Шварц . Два брата
Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но всё-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети.
Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие.
И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий, по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своём участке знал он по имени.
В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него всё шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их Старший и Младший. Старшему было двенадцать лет, а Младшему - семь. Как лесничий ни уговаривал своих детей, сколько ни просил, братья ссорились каждый день, как чужие.
И вот однажды - было это двадцать восьмого декабря утром - позвал лесничий сыновей и сказал, что ёлки к Новому году он им не устроит. За ёлочными украшениями надо ехать в город. Маму послать - её по дороге волки съедят. Самому ехать - он не умеет по магазинам ходить. А вдвоём ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит.
Старший был мальчик умный. Он хорошо учился, много читал и умел убедительно говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит Младшего и что дома всё будет в полном порядке, пока родители не вернутся из города.
- Ты даёшь мне слово? - спросил отец.
- Даю честное слово, - ответил Старший.
- Хорошо, - сказал отец. - Три дня нас не будет дома. Мы вернёмся тридцать первого вечером, часов в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное - за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же!
И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать.
А отец принёс дров на три дня и дал Старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели, и родители уехали.
Первый день прошёл хорошо. Второй - ещё лучше.
И вот наступило тридцать первое декабря. В шесть часов накормил Старший Младшего ужином и сел читать книжку "Приключения Синдбада-Морехода". И дошёл он до самого интересного места, когда появляется над кораблём птица Рок, огромная, как туча, и несёт она в когтях камень величиною с дом.
Старшему хочется узнать, что будет дальше, а Младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал Младший просить брата:
- Поиграй со мной, пожалуйста.
Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без Старшего, а тот гнал брата безо всякой жалости и кричал: "Оставь меня в покое!"
И на этот раз кончилось дело худо. Старший терпел-терпел, потом схватил Младшего за шиворот, крикнул: "Оставь меня в покое!" - вытолкал его во двор и запер дверь.
А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже тёмная ночь. Младший забарабанил в дверь кулаками и закричал:
- Что ты делаешь! Ведь ты мне вместо отца!
У Старшего сжалось на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал:
"Ладно, ладно. Я только прочту пять строчек и пущу его обратно. За это время ничего с ним не случится".
И он сел в кресло и стал читать и зачитался, а когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь.
Старший вскочил и закричал:
- Что же это! Что я наделал! Младший там на морозе, один, неодетый!
И он бросился во двор.
Стояла тёмная-тёмная ночь, и тихо-тихо было вокруг.
Старший во весь голос позвал Младшего, но никто ему не ответил.
Тогда Старший зажёг фонарь и с фонарём обыскал все закоулки во дворе.
Брат пропал бесследно.
Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов Младшего. Он исчез, как будто его унесла птица Рок.
Старший горько заплакал и громко попросил у Младшего прощенья.
Но и это не помогло. Младший брат не отзывался.
Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко в лесу зазвенели бубенчики.
"Наши возвращаются,- подумал с тоскою Старший.- Ах, если бы всё передвинулось на два часа назад! Я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом и радовались".
А бубенчики звенели всё ближе и ближе; вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его чёрная борода на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая.
Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были веселы, - они не знали, что дома случилось такое несчастье.
- Зачем ты выбежал во двор без пальто? - спросила мать.
- А где Младший? - спросил отец. Старший не ответил ни слова.
- Где твой младший брат? - спросил отец ещё раз. И Старший заплакал. И отец взял его за руку и повёл в дом. И мать молча пошла за ними. И Старший всё рассказал родителям.
Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде отца не растаял. И Старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от инея. Отец так огорчился, что даже поседел.
- Одевайся, - сказал отец тихо.- Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата.
- Что же, мы теперь совсем без детей останемся? - спросила мать плача, но отец ей ничего не ответил. И Старший оделся, взял фонарь и вышел из дому.
Он шёл и звал брата, шёл и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но Старшему казалось, что он теперь один на свете. Деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте как вкопанные. А кроме того, зимою они спят крепким сном. И мальчику не с кем было поговорить. Он шёл по тем местам, где часто бегал с младшим братом. И трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой Младший был худенький, и как на затылке у него прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда Старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда Старший принимал его в свою игру. И Старший так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем маленьким.
Вот кончился участок отца и начался участок соседнего лесничего, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик зашагал по участку лесничего, который бывал у них в гостях только раз в месяц. А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а Старший шагал, шагал, шагал всё быстрее и быстрее.
Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых Старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла всё вверх и вверх, и, когда рассвело, мальчик увидел: кругом, куда ни глянешь, всё горы и горы, покрытые густыми лесами.
Старший остановился.
Он знал, что от их дома до гор семь недель езды. Как же он добрался сюда за одну только ночь?
И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко лёгкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости, - не бубенчики ли это? Может быть, младший брат нашёлся и отец гонится за Старшим в санях, чтобы отвезти его домой?
Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так тоненько и так ровно.
- Пойду и узнаю, что там за звон,- сказал Старший.
Он шёл час, и два, и три. Звон становился всё громче и громче. И вот мальчик очутился среди удивительных деревьев, - высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стёкла. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру, ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели.
Мальчик пошёл дальше и увидел прозрачные ёлки, прозрачные берёзы, прозрачные клёны. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это? И земля в этом лесу прозрачна! А в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев.
Мальчик подошёл к берёзе и отломил веточку. И, пока он её разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька.
И Старший понял: лес, промёрзший насквозь, превратившийся в лёд, стоит вокруг. И растёт этот лес на ледяной земле, и корни деревьев тоже ледяные.
- Здесь такой страшный мороз, почему же мне не холодно? - спросил Старший.
- Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, - ответил кто-то тоненьким звонким голосом.
Мальчик оглянулся.
Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого снега. Борода и усы у старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика не мигая. Не доброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце.
А старик, помолчав, повторил отчётливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал:
- Я. Распорядился. Чтобы холод. Не причинил тебе. До поры до времени. Ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я?
- Вы как будто Дедушка Мороз? - спросил мальчик.
- Отнюдь нет! - ответил старик холодно. - Дедушка Мороз - мой сын. Я проклял его. Этот здоровяк слишком добродушен. Я - Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной.
И старик пошёл вперёд, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками.
Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щёлкнул замок, и тяжёлые ледяные ворота открылись в холме.
- Следуй за мной, - повторил старик.
- Но ведь мне нужно искать брата! - воскликнул мальчик.
- Твой брат здесь, - сказал Прадедушка Мороз спокойно. - Следуй за мной.
И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и Старший оказался в огромном, пустом, ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, а за ним ещё и ещё. Казалось, что нет конца этим просторным, пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал, на ледяной табличке, была вырезана цифра "2".
- В моём дворце сорок девять таких зал. Следуй за мной, - приказал Прадедушка Мороз.
Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал два раза, но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперёд и остановился только в двадцать пятом зале ледяного дворца.
Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался. Ему так хотелось погреться.
Но в печке этой ледяные поленья горели чёрным пламенем. Чёрные отблески прыгали по полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом. И Прадедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени.
- Садись рядом, помёрзнем, - предложил он мальчику.
Мальчик ничего не ответил.
А старик уселся поудобнее и мёрз, мёрз, мёрз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки.
Тогда Прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжёг их ледяными спичками.
- Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобою, - сказал он мальчику. - Ты. Должен. Слушать. Меня. Внимательно. Понял?
Мальчик кивнул головой.
И Прадедушка Мороз продолжал отчётливо и гладко:
- Ты. Выгнал. Младшего брата. На мороз. Сказав. Чтобы он. Оставил. Тебя. В покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял?
- Но ведь нас дома ждут! - воскликнул Старший жалобно.
- Ты. Останешься. Здесь. Навеки, - повторил Прадедушка Мороз.
Он подошёл к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные и окоченевшие, горкой легли на полу.
- Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое, - сказал старик.
- Они мёртвые? - спросил мальчик.
- Я успокоил их, но не совсем, - ответил Прадедушка Мороз. - Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись. Немедленно. Этим. Полезным. Делом.
- Я убегу! - крикнул мальчик.
- Ты никуда не убежишь! - ответил Прадедушка Мороз твердо. - Брат твой заперт в сорок девятом зале. Пока что он удержит тебя здесь, а впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу.
И мальчик уселся перед открытой дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему казалось, что птица ещё дышит. Но старик не мигая смотрел на мальчика, и мальчик угрюмо протянул дятла к ледяному пламени.
И перья несчастной птицы сначала побелели, как снег. Потом вся она стала твёрдой, как камень. А когда она сделалась прозрачной, как стекло, старик сказал:
- Готово! Принимайся за следующую.
До поздней ночи работал мальчик, а Прадедушка Мороз неподвижно стоял возле.
Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок и спросил мальчика:
- Руки у тебя не замёрзли?
- Нет, - ответил он.
- Это я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда,- сказал старик.- Но помни! Если. Ты. Ослушаешься. Меня. То я. Тебя. Заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь.
И Прадедушка Мороз, взяв мешок, ушёл в глубину дворца, и мальчик остался один.
Где-то далеко-далеко захлопнулась со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам.
И Прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком.
- Пришло время удалиться ко сну, - сказал Прадедушка Мороз. И он указал мальчику на ледяную кровать, которая стояла в углу. Сам он занял такую же кровать в противоположном конце зала.
Прошло две-три минуты, и мальчику показалось, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне Прадедушка Мороз.
Утром старик разбудил его.
- Отправляйся в кладовую, - сказал он. - Двери в неё находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять.
И мальчик пошёл в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках. И Старший принёс на ледяном блюде завтрак номер один.
И котлеты, и чай, и хлеб - всё было ледяное, и всё это надо было грызть или сосать, как леденцы.
- Я удаляюсь на промысел, - сказал Прадедушка Мороз, окончив завтрак. - Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца.
И Прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал, и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот он добрался, наконец, до сорок девятого зала и остановился как вкопанный.
Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, над которой стояла цифра "49". Последний зал был заперт наглухо.
- Младший! - крикнул старший брат. - Я пришёл за тобой. Ты здесь?
"Ты здесь?" - повторило эхо.
Дверь была вырезана из цельного промёрзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил. И хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба.
И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошёл Прадедушка Мороз.
И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнём несчастных замёрзших птиц, белок и зайцев.
Так и пошли дни за днями.
И все эти дни Старший думал, и думал, и думал только об одном: чем бы разбить ему ледяную дубовую дверь. Он обыскал всю кладовую. Он ворочал мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он нашёл его наконец, но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня.
И Старший думал, думал, и наяву и во сне, всё об одном, всё об одном.
И старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лёд птицы, зайцы, белки, Прадедушка Мороз говорил:
- Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. "Оставь меня в покое!" - какие великие слова. С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев. "Оставь меня в покое!" Эти. Великие. Слова. Установят. Когда-нибудь. Вечный. Покой. На земле.
И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничие говорили просто, а Прадедушка Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы.
Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю.
- Ах, как тихо, как прекрасно было тогда жить на белом, холодном свете! - рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько.- Я был тогда молод и полон сил. Куда исчезли мои дорогие друзья - спокойные, солидные, гигантские мамонты! Как я любил беседовать с ними! Правда, язык мамонтов труден. У этих огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда и трое суток. Но. Там. Некуда. Было. Спешить.
И вот однажды, слушая рассказы Прадедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте как бешеный.
- Что значит твоё нелепое поведение? - спросил старик сухо.
Мальчик не ответил ни слова, но сердце его так и стучало от радости.
Когда думаешь всё об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать.
Спички!
Мальчик вспомнил, что у него в кармане лежат те самые спички, которые ему дал отец, уезжая в город.
И на другое же утро, едва Прадедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и верёвку и выбежал из дворца.
Старик пошёл налево, а мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. И топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров.
У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал мальчик разложил высокий костёр. Вспыхнула спичка, затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя, и мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся.
Дубовая дверь сначала только блестела и сверкала так, что больно было смотреть, но вот, наконец, вся она покрылась мелкими водяными капельками. И когда костёр погас, мальчик увидел: дверь чуть-чуть подтаяла.
- Ага! - сказал он и ударил по двери топором. Но ледяной дуб по-прежнему был твёрд, как камень.
- Ладно! - сказал мальчик. - Завтра начнем сначала.
Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Прадедушка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костёр разгорелся, мальчик протянул птицу к огню.
Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика.
- Здравствуй! - сказал ей мальчик, чуть не плача от радости. - Погоди, Прадедушка Мороз! Мы ещё поживём!
И каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где было потемнее. Домики эти он устлал мохом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом, у костра, и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра.
Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала. А потом он играл с ними у огня или рассказывал о своём брате, который спрятан там, за дверью. И ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы понимают его.
И вот однажды мальчик, как всегда, принёс вязанку дров, развёл костёр и уселся у огня. Но никто из его друзей не вышел из своих снеговых домиков.
Мальчик хотел спросить: "Где же вы?" - но тяжёлая ледяная рука с силой оттолкнула его от огня.
Это Прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками.
Он дунул на костёр, и поленья стали прозрачными, а пламя чёрным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такою, как много дней назад.
- Ещё. Раз. Попадёшься. Заморожу! - сказал Прадедушка Мороз холодно. И он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снегу своей шубы.
Целый день плакал мальчик. И ночью с горя заснул как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон: кто-то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке.
Мальчик открыл глаза.
Заяц стоял возле.
И все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что почуяли опасность. Но теперь, когда Прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу.
Когда мальчик проснулся, семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы Прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко.
- Оставьте меня в покое, - пробормотал во сне старик.
И белки спрыгнули на пол и побежали к мальчику.
И он увидел: они принесли в зубах большую связку ледяных ключей.
И мальчик всё понял.
С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом.
Вот и дубовая дверь.
Мальчик нашёл ключ с цифрой "49". Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал... но напрасно.
Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он нашёл что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень.
И дятлы терпеливо застучали своими твёрдыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, и вдруг четырёхугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась.
А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину. И он вставил ключ и повернул его, и замок щёлкнул, и упрямая дверь открылась наконец со звоном.
И мальчик, дрожа, вошёл в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери.
А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом. Но он был весь прозрачный, как стеклянный, и лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках - всё было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату. А Старший шептал:
- Бежим, прошу тебя, бежим! Мама ждёт! Скорее бежим домой!
Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом.
Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал. И они благополучно выбрались из дворца.
Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить Младшего. И вдруг громкий крик раздался позади.
Прадедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья:
- Мальчик! Мальчик! Мальчик!
Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А Младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слезы его блестели на солнце.
- Остановись! - приказал старик. Старший остановился.
И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой тёплой шубой.
И Старший ожил и побежал вперёд, осторожно глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата.
Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее, - ледяная земля была такая скользкая. И вот, когда он уже думал, что погиб, зайцы вдруг бросились кубарем под ноги злому старику. И Прадедушка Мороз упал, а когда поднялся, то зайцы ещё раз и ещё раз свалили его на землю. Они делали это дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда Прадедушка Мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко держа в руках своего брата, уже был далеко внизу, в живом лесу. И Прадедушка Мороз заплакал от злости. И когда он заплакал, сразу стало теплее. И Старший увидел, что снег быстро тает вокруг, и ручьи бегут по оврагам. А внизу, у подножия гор, почки набухли на деревьях.
- Смотри - подснежник! - крикнул Старший радостно.
Но Младший не ответил ни слова. Он по-прежнему был неподвижен, как кукла, и печально глядел прямо перед собой.
- Ничего. Отец всё умеет делать! - сказал Старший Младшему.- Он оживит тебя. Наверное оживит!
И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор Старший добрался так быстро с горя, а теперь он мчался, как вихрь, от радости. Ведь всё-таки брата он нашёл.
Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал, и замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в три месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья-зайцы кувыркались от радости, друзья-белки прыгали с ветки на ветку, друзья-птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно, - ведь листья распустились, весна пришла.
И вдруг старший брат поскользнулся.
На дне ямки, под старым клёном, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший тёмный снег.
И Старший упал.
И бедный Младший ударился о корень дерева.
Сразу тихо-тихо стало в лесу.
И из снега вдруг негромко раздался знакомый тоненький голос:
- Конечно! От меня. Так. Легко. Не уйдёшь!
И Старший упал на землю и заплакал так горько, как не плакал ещё ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться.
Он плакал и плакал, пока не уснул с горя как убитый.
А птицы собрали Младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками и склеили берёзовым клеем. И потом все они тесно окружили Младшего как бы живой тёплой шубкой. А когда взошло солнце, то все они улетели прочь. Младший лежал на весеннем солнышке, и оно осторожно, тихонечко согревало его. И вот слезы на лице у Младшего высохли. И глаза спокойно закрылись. И руки стали тёплыми. И курточка стала полосатой. И башмаки стали чёрными. И прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз, и другой, и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне.
И когда Старший проснулся, брат его, целый и невредимый, спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая, а птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах.
Но вот Старший опомнился, бросился к Младшему и схватил его за руку.
А тот открыл глаза и спросил как ни в чём не бывало:
- А, это ты? Который час?
И Старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой.
Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал Старшему идти на поиски брата.
- Как птицы громко кричат сегодня, - сказала мать.
- Обрадовались теплу, - ответил отец.
- Белки прыгают с ветки на ветку, - сказала мать.
- И они тоже рады весне, - ответил отец.
- Слышишь?! - вдруг крикнула мать.
- Нет, - ответил отец. - А что случилось?
- Кто-то бежит сюда!
- Нет! - повторил отец печально. -Мне тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под окнами. Никто к нам не прибежит.
Но мать была уже во дворе и звала:
- Дети, дети!
И отец вышел за нею. И оба они увидели: по лесу бегут Старший и Младший, взявшись за руки.
Родители бросились к ним навстречу.
И когда все успокоились немного и вошли в дом, Старший взглянул на отца и ахнул от удивления.
Седая борода отца темнела на глазах, и вот она стала совсем чёрной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на десять.
С горя люди седеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, бывает очень-очень редко, но всё-таки бывает.
И с тех пор они жили счастливо.
Правда, Старший говорил изредка брату:
- Оставь меня в покое.
Но сейчас же добавлял:
- Не надолго оставь, минут на десять, пожалуйста. Очень прошу тебя.
И Младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно.
О. Уайльд. Мальчик-звезда
Как-то раз двое бедных Лесорубов возвращались домой, пробиваясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, стоял лютый мороз. И на земле и на деревьях лежал толстый снежный покров. Когда Лесорубы продирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались от их движений, а когда они приблизились к Горному Водопаду, то увидели, что он неподвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала Королева Льда.
Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности.
– Уф! – проворчал Волк, прыгая между кустами, поджав хвост. – Какая чудовищная погода. Не понимаю, куда смотрит правительство.
– Фью! Фью! Фью! – просвиристели зелёные Коноплянки. – Старушка-Земля умерла, и её одели в белый саван.
– Земля готовится к свадьбе, а это её подвенечный наряд, – прошептали друг другу Горлинки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода, но они считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на вещи.
– Вздор! – проворчал Волк. – Говорю вам, что во всём виновато правительство, а если вы мне не верите, я вас съем. – Волк обладал очень трезвым взглядом на вещи и в споре никогда не лез за словом в карман.
– Ну, что касается меня, – сказал Дятел, который был прирождённым философом, – я не нуждаюсь в физических законах для объяснений явлений. Если вещь такова сама по себе, то она сама по себе такова, а сейчас адски холодно.
Холод в самом деле был адский. Маленькие Белочки, жившие в дупле высокой ели, всё время тёрли друг другу носы, чтобы хоть немного согреться, а Кролики съёжились в комочек в своих норках и не смели выглянуть наружу. И только большие рогатые Совы – одни среди всех живых существ – были, по-видимому, довольны. Их перья так обледенели, что стали совершенно твёрдыми, но это нисколько не тревожило Сов; они таращили свои огромные жёлтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес:
– У-у-у! У-у-у! У-у-у! У-у-у! Какая нынче восхитительная погода!
А двое Лесорубов всё шли и шли через бор, ожесточённо дуя на замёрзшие пальцы и топая по обледеневшему снегу тяжёлыми, подбитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий, занесённый снегом овраг и вылезли оттуда белые, как мукомолы, когда те стоят у крутящихся жерновов; а в другой раз они поскользнулись на твёрдом гладком льду замёрзшего болота, их вязанки хвороста рассыпались, и пришлось им собирать их и заново увязывать; а ещё как-то им почудилось, что они заблудились, и на них напал великий страх, ибо им было известно, что Снежная Дева беспощадна к тем, кто засыпает в её объятиях. Но они возложили свои надежды на заступничество Святого Мартина, который благоприятствует всем путешественникам, и вернулись немного обратно по своим следам, а дальше шли с большей осмотрительностью и, в конце концов, вышли на опушку и увидели далеко внизу в Долине огни своего селения.
Они очень обрадовались, что выбрались наконец из леса, и громко рассмеялись, а Долина показалась им серебряным цветком, и Луна над ней – цветком золотым.
Но, посмеявшись, они снова стали печальными, потому что вспомнили про свою бедность, и один из них сказал другому:
– С чего это мы так развеселились? Ведь жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой. Лучше бы нам замерзнуть в бору или стать добычей диких зверей.
– Ты прав, – отвечал его товарищ. – Одним дано очень много, а другим – совсем мало. В мире царит несправедливость, и благами она одаряет лишь немногих, а вот горе отмеряет щедрой рукой.
Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная и необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звёзд, и, когда изумленные Лесорубы проводили её взглядом, им показалось, что она упала за старыми ветлами возле небольшой овчарни, неподалёку от того места, где они стояли.
– Слушай! Да ведь это же кусок золота, надо его разыскать! – разом закричали оба и тут же припустились бежать – такая жажда золота их обуяла.
Но один из них бежал быстрее другого, перегнал своего товарища, пробрался между ветлами… и что же он увидел? На белом снегу и вправду лежало что-то, сверкающее, как золото. Лесоруб подбежал, наклонился, поднял этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из золотой ткани, причудливо расшитый звёздами и ниспадающий пышными складками. И он крикнул своему товарищу, что нашёл сокровище, упавшее с неба, и тот поспешил к нему, и они опустились на снег и расправили складки плаща, чтобы достать оттуда золото и разделить его между собой. Но увы! В складках плаща они не обнаружили ни золота, ни серебра, ни других сокровищ, а увидели только спящее дитя.
И один Лесоруб сказал другому:
– Все наши надежды пошли прахом, нет нам с тобой удачи! Ну какая польза человеку от ребёнка? Давай оставим его здесь и пойдём своим путём, ведь мы люди бедные, у нас и своих детей хватает, и мы не можем отнимать у них хлеб, чтобы отдавать его другим.
Но другой Лесоруб ответил так:
– Нет, нельзя совершить такое злое дело – оставить это дитя замерзать тут на снегу, и, хоть я не богаче тебя и у меня ещё больше ртов просят хлеба, а в горшках тоже не густо, всё равно я отнесу этого ребенка к себе домой, и моя жена позаботится о нём.
И он осторожно поднял ребенка, завернул его в плащ, чтобы защитить от жгучего мороза, и зашагал вниз с холма к своему селению, а его товарищ очень подивился про себя такой его глупости и мягкосердечию.
А когда они пришли в своё селение, его товарищ сказал ему:
– Ты взял себе ребенка, так отдай мне плащ, ты же должен поделиться со мной находкой.
Но тот отвечал ему:
– Нет, не отдам, потому что этот плащ не твой и не мой, а принадлежит только ребёнку, – и, пожелав ему доброго здоровья, подошёл к своему дому и постучал в дверь.
Когда жена отворила дверь и увидела, что это её муженек возвратился домой целый и невредимый, она обвила руками его шею, и поцеловала его, и сняла с его спины вязанку хвороста, и отряхнула снег с его сапог, и пригласила его войти в дом.
Но Лесоруб сказал жене:
– Я нашёл кое-что в лесу и принёс тебе, чтобы ты позаботилась о нём, – и он не переступил порога.
– Что же это такое? – воскликнула жена. – Покажи скорее, ведь у нас в дому пусто, и мы очень во многом нуждаемся. – И тогда он распахнул плащ и показал ей спящее дитя.
– Увы, мне горестно! – прошептала жена. – Разве у нас нет собственных детей! Что это тебе, хозяин, понадобилось сажать к нашему очагу подкидыша? А может, он принесёт нам несчастье? И кто его знает, как надо за ним ухаживать? – И она очень рассердилась на мужа.
– Да ты послушай, ведь это Дитя-звезда, – отвечал муж и рассказал жене всю удивительную историю о том, как он нашёл этого ребенка.
Но это её не успокоило, и она начала насмехаться над ним и бранить его и закричала:
– Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ребёнка? А кто позаботится о нас? Кто нам даст поесть?
– Но ведь Господь заботится даже о воробьях и даёт им пропитание, – отвечал муж.
– А мало воробьев погибает от голода зимой? – спросила жена.– И разве сейчас не зима?
На это муж ничего не ответил ей, но и не переступил порога.
И тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую дверь, и жена вздрогнула, поежилась и сказала мужу:
– Почему ты не затворишь дверь? Смотри, какой студёный ветер, я совсем замёрзла.
– В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда будет стужа, – сказал муж.
И жена не ответила ему ничего, только ближе пододвинулась к огню.
Но прошло ещё немного времени, и она обернулась к мужу и поглядела на него, и её глаза были полны слёз. И тогда он быстро вошёл в дом и положил ребёнка ей на колени. А она, поцеловав ребёнка, опустила его в колыбельку рядом с младшим из своих детей. А на другое утро Лесоруб взял необыкновенный плащ из золота и спрятал его в большой сундук, а его жена сняла с шеи ребёнка янтарное ожерелье и тоже спрятала его в сундук.
Итак, Дитя-звезда стал расти вместе с детьми Лесоруба, и ел за одним с ними столом, и играл с ними. И с каждым годом он становился всё красивее и красивее, и жители селения дивились его красоте, ибо все они были смуглые и черноволосые, а у него лицо было белое и нежное, словно выточенное из слоновой кости, и золотые кудри его были как лепестки нарцисса, а губы – как лепестки алой розы, и глаза – как фиалки, отражённые в прозрачной воде ручья. И он был строен, как цветок, выросший в густой траве, где не ступала нога косца.
Но красота его принесла ему только зло, ибо он вырос себялюбивым, гордым и жестоким. На детей Лесоруба, да и на всех прочих детей в селении он смотрел сверху вниз, потому что, говорил он, все они низкого происхождения, в то время как он знатного рода, ибо происходит от Звезды. И он помыкал детьми и называл их своими слугами. Он не испытывал сострадания к беднякам или к слепым, недужным и увечным, но швырял в них камнями и прогонял их из селения на проезжую дорогу и кричал им, чтобы они шли побираться в другое место, после чего ни один из нищих, кроме каких-нибудь самых отчаявшихся, не осмеливался вторично прийти в это селение за милостыней. И он был точно околдован своей красотой и высмеивал всех, кто был жалок и безобразен, и выставлял их на посмешище. Себя же он очень любил и летом в безветренную погоду часто лежал у водоёма в фруктовом саду священника и глядел на своё дивное отражение, и смеялся от радости, любуясь своей красотой.
Лесоруб и его жена не раз бранили его, говоря:
– Мы-то ведь не так поступили с тобой, как поступаешь ты с этими несчастными, обездоленными судьбой, у которых нет ни одной близкой души на свете. Почему ты так жесток к тем, кто нуждается в участии?
И старик священник не раз посылал за ним и пытался научить его любви ко всем Божьим тварям, говоря:
– Мотылёк – твой брат, не причиняй ему вреда. Птицы, что летают по лесу, – свободные создания. Не расставляй им силков для своей забавы. Бог создал земляного червя и крота и определил каждому из них его место. Кто ты такой, что осмеливаешься приносить страдания в сотворённый Богом мир? Ведь даже скот, пасущийся в лугах, прославляет Божье имя.
Но Мальчик-звезда не внимал ничьим словам, только хмурился и усмехался презрительно, а потом бежал к своим сверстникам и помыкал ими как хотел. И его сверстники слушались его, потому что он был красив, быстроног и умел плясать, и петь, и наигрывать на свирели. И куда бы Мальчик-звезда ни повёл их, они следовали за ним, и что бы он ни приказал им сделать, они ему повиновались. И когда он проткнул острой тростинкой подслеповатые глаза крота, они смеялись, и когда он швырял камнями в прокажённого, они смеялись тоже. Всегда и во всём он был их вожаком, и они стали столь же жестокосердны, как он.
И вот как-то раз через селение проходила одна несчастная нищенка. Одежда её была в лохмотьях, босые ноги, израненные об острые камни дороги, все в крови, словом, была она в самом бедственном состоянии. Изнемогая от усталости, она присела отдохнуть под каштаном.
Но тут увидел её Мальчик-звезда и сказал своим товарищам:
– Гляньте! Под прекрасным зеленолистым деревом сидит отвратительная грязная нищенка. Пойдём прогоним её, потому что она противна и безобразна.
И с этими словами он подошёл к ней поближе и начал швырять в неё камнями и насмехаться над ней. А она поглядела на него, и в глазах её отразился ужас, и она не могла отвести от него взгляда. Но тут Лесоруб, который стругал жерди под навесом, увидел, что делает Мальчик-звезда, подбежал к нему и стал его бранить, говоря:
– Воистину у тебя каменное сердце, и жалость тебе неведома. Что сделала тебе эта бедная женщина, почему ты гонишь её отсюда?
Тогда Мальчик-звезда покраснел от злости, топнул ногой и сказал:
– А кто ты такой, чтобы спрашивать меня, почему я так поступаю? Я тебе не сын и не обязан тебя слушаться.
– Это верно,– отвечал Лесоруб,– однако я пожалел тебя, когда нашёл в лесу.
И когда нищая услыхала эти слова, она громко вскрикнула и упала без чувств. Тогда Лесоруб поднял её и отнёс к себе в дом, а его жена принялась ухаживать за ней, и, когда женщина очнулась, Лесоруб и его жена поставили перед ней еду и питьё и сказали, что они рады предоставить ей кров.
Но женщина не хотела ни есть, ни пить и сказала Лесорубу:
– Верно ли ты сказал, что нашёл этого мальчика в лесу? И с того дня минуло десять лет, не так ли?
И Лесоруб ответил:
– Да, так оно и было, я нашёл его в лесу, и с того дня минуло уже десять лет.
– А не нашёл ли ты вместе с ним еще чего-нибудь? – воскликнула женщина. – Не было ли у него на шее янтарного ожерелья? И не был ли он закутан в золотой плащ, расшитый звёздами?
– Все верно,– отвечал Лесоруб. И он вынул плащ и янтарное ожерелье из сундука, в котором они хранились, и показал их женщине.
И когда женщина увидела эти вещи, она расплакалась от радости и сказала:
– Этот ребенок – мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла весь мир.
И Лесоруб с женой вышли из дома и стали звать Мальчика-звезду и сказали ему:
– Войди в дом, там ты найдешь свою мать, которая ждёт тебя.
И Мальчик-звезда, исполненный радости и изумления, вбежал в дом. Но когда он увидел ту, что ждала его там, он презрительно рассмеялся и сказал:
– Ну, а где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой противной нищенки.
И женщина ответила ему:
– Я – твоя мать.
– Ты, должно быть, лишилась рассудка, – гневно вскричал Мальчик-звезда. – Я не твой сын, ведь ты же нищенка, ты уродлива и одета в лохмотья. Ну-ка убирайся отсюда, чтобы я не видел твоего мерзкого лица.
– Но ведь ты же в самом деле мой маленький сынок, которого я родила в лесу, – вскричала женщина и, упав перед ним на колени, простерла к нему руки. – Разбойники украли тебя и оставили погибать в лесу, – плача, проговорила она. – Но я сразу узнала тебя, как только увидела, и узнала вещи, по которым тебя можно опознать, – золотой плащ и янтарное ожерелье. И я молю тебя, пойдём со мной, ведь, разыскивая тебя, я обошла весь свет. Пойдём со мной, мой сын, потому что я нуждаюсь в твоей любви.
Но Мальчик-звезда не шевельнулся; он наглухо затворил своё сердце, чтобы её жалобы не могли туда проникнуть, и в наступившей тишине слышны были только стенания женщины, рыдавшей от горя.
Наконец он заговорил, и его голос звучал холодно и презрительно.
– Если это правда, что ты моя мать, – сказал он?– лучше бы тебе не приходить сюда и не позорить меня, ведь я думал, что моей матерью была Звезда, а не какая-то нищенка, как это ты говоришь мне. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел.
– Увы, сын мой! – вскричала женщина. – Неужели ты не поцелуешь меня на прощанье? Ведь я столько претерпела мук, чтобы найти тебя.
– Нет,– сказал Мальчик-звезда, – ты слишком омерзительна, и мне легче поцеловать гадюку или жабу, чем тебя.
Тогда женщина встала и, горько рыдая, скрылась в лесу, а Мальчик-звезда, увидав, что она ушла, очень обрадовался и побежал играть со своими товарищами.
Но те, поглядев на него, начали смеяться над ним и сказали:
– Да ведь ты мерзок, как жаба, и отвратителен, как гадюка. Убирайся отсюда, мы не хотим, чтобы ты играл с нами. – И они выгнали его из сада. Тогда Мальчик-звезда задумался и сказал себе:
– Что такое они говорят? Я пойду к водоему и погляжусь в него, и он скажет мне, что я красив.
И он пошел к водоёму и поглядел в него, но что же он увидел! Лицом он стал похож на жабу, а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву и заплакал и сказал:
– Не иначе как это мне наказание за мой грех. Ведь я отрёкся от моей матери и прогнал её, я возгордился перед ней и был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски и обойти весь свет, пока не найду её. А до тех пор я не буду знать ни отдыха, ни покоя.
Тут подошла к нему маленькая дочка Лесоруба, и положила ему руку на плечо, и сказала:
– Это ещё не беда, что ты утратил свою красоту. Оставайся с нами, и я никогда не буду дразнить тебя.
Но он сказал ей:
– Нет, я был жесток к моей матери, и в наказание со мной случилось это несчастье. Поэтому я должен уйти отсюда и бродить по свету, пока не найду свою мать и не вымолю у неё прощенья.
И он побежал в лес и начал громко призывать свою мать, прося её вернуться к нему, но не услышал ответа. Весь день он звал её, а когда солнце закатилось, прилёг на груду листьев и уснул, и все птицы и звери оставили его, потому что знали, как жестоко он поступил, и только жаба разделяла его одиночество и охраняла его сон, да гадюка медленно проползла мимо.
А наутро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрёл через дремучий лес, горько плача. И всех, кто бы ни повстречался ему на пути, он спрашивал, не видали ли они его матери.
Он спросил Крота:
– Ты роешь свои ходы под землёй. Скажи, не видал ли ты моей матери?
Но Крот отвечал:
– Ты выколол мне глаза, как же я мог её увидеть?
Тогда он спросил у Коноплянки:
– Ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видала ли ты моей матери?
Но Коноплянка отвечала:
– Ты подрезал мне крылья ради забавы. Как же могу я теперь летать?
И маленькую Белочку, которая жила в дупле ели одна-одинёшенька, он спросил:
– Где моя мать?
И Белочка отвечала:
– Ты убил мою мать, может быть, ты разыскиваешь свою, чтобы убить её тоже?
И Мальчик-звезда опустил голову, и заплакал, и стал просить прощенья у всех Божьих тварей, и углубился дальше в лес, продолжая свои поиски. А на третий день, пройдя через весь лес, он вышел на опушку и спустился в долину.
И когда он проходил через селение, дети дразнили его и бросали в него камнями, и крестьяне не позволяли ему даже поспать в амбаре, боясь, что от него может сесть плесень на зерно, ибо он был очень гадок с виду, и приказывали работникам прогнать его прочь, и ни одна душа не сжалилась над ним. И нигде не мог он ничего узнать о нищенке, которая была его матерью, хотя вот уже три года бродил он по свету, и не раз казалось ему, что он видит её впереди на дороге, и тогда он принимался звать её и бежать за ней, хотя острый щебень ранил его ступни и из них сочилась кровь. Но он не мог её догнать, а те, кто жил поблизости, утверждали, что они не видели ни её, ни кого-либо похожего с виду, и потешались над его горем.
Три полных года бродил он по свету, и нигде никогда не встречал ни любви, ни сострадания, ни милосердия; весь мир обошёлся с ним так же, как поступал он сам в дни своей гордыни.
И вот однажды вечером он подошёл к городу, расположенному на берегу реки и обнесённому высокой крепостной стеной, и приблизился к воротам, и, хотя он очень устал и натрудил ноги, всё же он хотел войти в город. Но воины, стоявшие у ворот на страже, скрестили свои алебарды и грубо крикнули ему:
– Что тебе нужно в нашем городе?
– Я разыскиваю мою мать, – отвечал он, – и молю вас, дозвольте мне войти в город, ведь может случиться, что она там.
Но они стали насмехаться над ним, и один из них, тряся черной бородой, поставил перед ним свой щит и закричал:
– Воистину твоя мать возрадуется, увидав тебя, ведь ты безобразней, чем жаба в болоте или гадюка, выползшая из топи. Убирайся отсюда! Убирайся! Твоей матери нет в нашем городе.
А другой, тот, что держал в руке древко с желтым стягом, сказал ему:
– Кто твоя мать и почему ты разыскиваешь её?
И он отвечал:
– Моя мать живёт подаяниями, так же как и я, и я обошёлся с ней очень дурно и молю тебя: дозволь мне пройти, чтобы я мог испросить у неё прощения, если она живёт в этом городе.
Но они не захотели его пропустить и стали колоть своими пиками.
А когда он с плачем повернул обратно, некто в кольчуге, разукрашенной золотыми цветами, и в шлеме с гребнем в виде крылатого льва приблизился к воротам и спросил воинов, кто тут просил дозволения войти в город. И воины отвечали ему:
– Это нищий и сын нищенки, и мы прогнали его прочь.
– Ну нет, – рассмеявшись, сказал тот, – мы продадим это мерзкое создание в рабство, и цена его будет равна цене чаши сладкого вина.
А в это время мимо проходил какой-то страшный и злой с виду старик и, услыхав эти слова, сказал:
– Я заплачу за него эту цену. – И, заплатив её, взял Мальчика-звезду за руку и повёл в город.
Они прошли много улиц и подошли наконец к маленькой калитке в стене, затенённой большим гранатовым деревом. И старик коснулся калитки яшмовым перстнем, и она отворилась, и они спустились по пяти бронзовым ступеням в сад, где цвели чёрные маки и стояли зелёные глиняные кувшины. И тогда старик вынул из своего тюрбана узорчатый шёлковый шарф, и завязал им глаза Мальчику-звезде, и повёл его куда-то, толкая перед собой. А когда он снял повязку с его глаз, Мальчик-звезда увидел, что он находится в темнице, которая освещалась фонарем, повешенным на крюк.
И старик положил перед ним на деревянный лоток ломоть заплесневелого хлеба и сказал:
– Ешь.
И поставил перед ним чашу с солоноватой водой и сказал:
– Пей.
И когда Мальчик-звезда поел и попил, старик ушёл и запер дверь темницы на ключ и закрепил железной цепью.
На следующее утро старик, который на самом деле был одним из самых искусных и коварных волшебников Ливии и научился своему искусству у другого волшебника, обитавшего в гробнице на берегу Нила, вошёл в темницу, хмуро поглядел на Мальчика-звезду и сказал:
– В том лесу, что неподалёку от ворот этого города гяуров, скрыты три золотые монеты: из белого золота, из жёлтого золота и из красного золота. Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота, а если не принесёшь, получишь сто плетей. Поспеши, на закате солнца я буду ждать тебя у калитки моего сада. Смотри, принеси мне монету из белого золота, или тебе будет плохо, потому что ты мой раб, и я уплатил за тебя цену целой чаши сладкого вина. – И он завязал глаза Мальчику-звезде шарфом узорчатого шёлка, и вывел его из дома в сад, где росли чёрные маки, и, заставив подняться на пять бронзовых ступенек, отворил с помощью своего перстня калитку.
И Мальчик-звезда вышел из калитки, прошёл через город и вступил в лес, о котором говорил ему Волшебник.
А лес этот издали казался очень красивым, и мнилось, что он полон певчих птиц и ароматных цветов, и Мальчик-звезда радостно углубился в него. Но ему не довелось насладиться красотой леса, ибо, куда бы он ни ступил, повсюду перед ним поднимался из земли колючий кустарник, полный острых шипов, и ноги его обжигала злая крапива, и чертополох колол его своими острыми, как кинжал, колючками, и Мальчику-звезде приходилось очень плохо. А главное, он нигде не мог найти монету из белого золота, о которой говорил ему Волшебник, хотя и разыскивал её с самого утра до полудня и от полудня до захода солнца. Но вот солнце село, и он побрёл домой, горько плача, ибо знал, какая участь его ожидает.
Но когда он подходил к опушке леса, из чащи до него долетел крик, – казалось, кто-то взывает о помощи. И, позабыв про свою беду, он побежал на этот крик и увидел маленького Зайчонка, который попал в силок, расставленный каким-то охотником.
И Мальчик-звезда сжалился над Зайчонком, и освободил его из силка, и сказал ему:
– Сам я всего лишь раб, но тебе я могу даровать свободу.
А Зайчонок ответил ему так:
– Да, ты даровал мне свободу, скажи, чем могу я отблагодарить тебя?
И Мальчик-звезда сказал ему:
– Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти её, а если я не принесу её своему хозяину, он побьёт меня.
– Ступай за мной, – сказал Зайчонок, – и я отведу тебя туда, куда тебе нужно, потому что я знаю, где спрятана эта монета и зачем.
Тогда Мальчик-звезда последовал за маленьким Зайчонком, и что же он увидел? В дупле большого дуба лежала монета из белого золота, которую он искал. И Мальчик-звезда несказанно обрадовался, схватил её и сказал Зайчонку:
– За услугу, которую я оказал тебе, ты отблагодарил меня сторицей, и за добро, что я для тебя сделал, ты воздал мне стократ.
– Нет, – отвечал Зайчонок, – как ты поступил со мной, так и я поступил с тобой. – И он проворно поскакал прочь, а Мальчик-звезда направился в город.
Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел прокажённый. Лицо его скрывал серый холщовый капюшон, и глаза его горели в прорезях, словно угли, и, когда он увидел приближавшегося к воротам Мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской, и зазвонил в свой колокольчик, и крикнул ему так:
– Подай мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду. Ибо они изгнали меня из города, и нет никого, кто бы сжалился надо мной.
– Увы! – вскричал Мальчик-звезда. – У меня в кошельке есть только одна-единственная монета, и если я не отнесу её моему хозяину, он прибьёт меня, потому что я его раб.
Но прокажённый стал просить его и умолять и делал это до тех пор, пока Мальчик-звезда не сжалился над ним и не отдал ему монету из белого золота.
Когда же он подошёл к дому Волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад, и спросил его:
– Ты принёс монету из белого золота?
И Мальчик-звезда ответил:
– Нет, у меня её нет.
И тогда Волшебник набросился на него, и стал его колотить, и поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба, и сказал:
– Ешь. – И поставил перед ним пустую чашку и сказал: – Пей. – И снова бросил его в темницу.
А наутро Волшебник пришёл к нему и сказал:
– Если сегодня ты не принесешь мне монету из желтого золота, ты навсегда останешься моим рабом и получишь от меня триста плетей.
Тогда Мальчик-звезда направился в лес и целый день искал там монету из желтого золота, но не мог нигде найти её. А когда закатилось солнце, он опустился на землю, и заплакал, и пока он сидел так, проливая слёзы, к нему прибежал маленький Зайчонок, которого он освободил из силка.
И Зайчонок спросил его:
– Почему ты плачешь? И чего ты ищешь в лесу?
И Мальчик-звезда отвечал:
– Я ищу монету из жёлтого золота, которая здесь спрятана, и, если я не найду её, мой хозяин побьёт меня и навсегда оставит у себя в рабстве.
– Следуй за мной! – крикнул Зайчонок и поскакал через лес, пока не прискакал к небольшому озеру. А на дне озера лежала монета из жёлтого золота.
– Как мне благодарить тебя? – сказал Мальчик-звезда. – Ведь вот уж второй раз, как ты выручаешь меня.
– Ну и что ж, зато ты первый сжалился надо мной, – сказал Зайчонок и проворно поскакал прочь.
И Мальчик-звезда взял монету из жёлтого золота, положил её в свой кошелёк и поспешил в город. Но прокажённый увидел его на дороге, и побежал ему навстречу, и упал перед ним на колени, крича:
– Подай мне милостыню, или я умру с голоду!
Но Мальчик-звезда сказал ему:
– У меня в кошельке нет ничего, кроме монеты из жёлтого золота, но если я не принесу её моему хозяину, он побьёт меня и навеки оставит у себя в рабстве.
Но прокажённый молил его сжалиться над ним, и Мальчик-звезда пожалел его и отдал ему монету из желтого золота.
А когда он подошёл к дому Волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад, и спросил его:
– Ты принёс монету из желтого золота?
И Мальчик-звезда ответил:
– Нет, у меня её нет.
И Волшебник набросился на него, и стал его избивать, и заковал его в цепи, и снова вверг в темницу.
А наутро Волшебник пришёл к нему и сказал:
– Если сегодня ты принесешь мне монету из красного золота, я отпущу тебя на свободу, а если не принесешь, я убью тебя.
И Мальчик-звезда отправился в лес и целый день разыскивал там монету из красного золота, но нигде не мог её найти. Когда же стемнело, он сел и заплакал, и, пока он сидел так, проливая слёзы, к нему прибежал маленький Зайчонок.
И Зайчонок сказал ему:
– Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится в пещере, что у тебя за спиной. Так что перестань плакать и возрадуйся.
– Как могу я отблагодарить тебя! – воскликнул Мальчик-звезда. – Ведь уже третий раз ты выручаешь меня из беды.
– Но ты первый сжалился надо мной, – сказал Зайчонок и проворно ускакал прочь.
А Мальчик-звезда вошёл в пещеру и в глубине её увидел монету из красного золота. Он положил её в свой кошелёк и поспешил вернуться в город. Но когда прокажённый увидел его, он стал посреди дороги и громко закричал, взывая к нему:
– Отдай мне монету из красного золота, или я умру!
И Мальчик-звезда снова пожалел его и отдал ему монету из красного золота, сказав:
– Твоя нужда больше моей.
Однако сердце его сжалось от тоски, ибо он знал, какая страшная судьба его ожидает.
Но чудо! Когда проходил он городские ворота, воины низко склонились перед ним, отдавая ему почести и восклицая:
– Как прекрасен господин наш!
А толпа горожан следовала за ним, и все твердили:
– Воистину не найдётся никого прекраснее во всём мире!
И Мальчик-звезда заплакал и сказал себе:
– Они смеются надо мной и потешаются над моей бедой.
Но так велико было стечение народа, что он сбился с дороги и пришёл на большую площадь, где стоял королевский дворец.
И ворота дворца распахнулись, и навстречу Мальчику-звезде поспешили священнослужители и знатнейшие вельможи города и, смиренно поклонившись ему, сказали:
– Ты наш господин, которого мы давно ожидаем, и сын нашего государя.
А Мальчик-звезда сказал им в ответ:
– Я не королевский сын, я сын бедной нищенки. И зачем говорите вы, что я прекрасен, когда я знаю, что вид мой мерзок?
И тогда тот, чья кольчуга была разукрашена золотыми цветами и на чьём шлеме гребень был в виде крылатого льва, поднял свой щит и вскричал:
– Почему господин мой не верит, что он прекрасен?
И Мальчик-звезда посмотрел в щит, и что же он увидел? Его красота вернулась к нему, и лицо его стало таким же, каким было прежде, только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше никогда в них не видел.
А священнослужители и вельможи преклонили перед ним колена и сказали:
– Было давнее пророчество, что в день этот придёт к нам тот, кому суждено править нами. Так пусть же господин наш возьмёт эту корону и этот скипетр и станет нашим королём, справедливым и милосердным.
Но Мальчик-звезда отвечал им:
– Я недостоин этого, ибо я отрёкся от матери, которая носила меня под сердцем, и теперь ищу её, чтобы вымолить у неё прощение, и не будет мне покоя, пока я не найду её. Так отпустите же меня, ибо должен я вновь отправиться странствовать по свету, и нельзя мне медлить здесь, хоть вы и предлагаете мне корону и скипетр.
И, сказав это, он отвернулся от них и обратил свое лицо к улице, тянувшейся до самых городских ворот. И что же он увидел? Среди толпы, оттеснившей стражу, стояла нищенка, которая была его матерью, а рядом с ней стоял прокажённый.
И крик радости сорвался с его уст, и, бросившись к своей матери, он осыпал поцелуями раны на её ногах и оросил их слезами. Он склонил свою голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце его разрывалось, сказал:
– О мать моя! Я отрёкся от тебя в дни моей гордыни. Не отринь же меня в час моего смирения. Мать моя, я дал тебе ненависть. Одари же меня любовью. Мать моя, я отверг тебя. Прими же своё дитя.
Но нищенка не ответила ему ни слова. И он простер руки к прокажённому и припал к его стопам, говоря:
– Трижды оказал я тебе милосердие. Умоли же мою мать ответить мне хоть единый раз.
Но прокажённый хранил безмолвие.
И снова зарыдал Мальчик-звезда и сказал:
– О мать моя, это страдание мне не по силам. Даруй мне своё прощение и позволь вернуться в наш бор.
И нищенка положила руку на его голову и сказала:
– Встань!
И прокажённый положил руку на его голову и тоже сказал:
– Встань!
И он встал с колен и посмотрел на них. И что же! Перед ним были Король и Королева. И Королева сказала ему:
– Вот твой отец, которому ты помог в час нужды.
А Король сказал:
– Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл своими слезами.
И они пали в его объятия, и осыпали его поцелуями, и отвели во дворец, где облекли его в дивные одежды, и возложили на его голову корону, и дали ему в руки скипетр, и он стал властелином города, который стоял на берегу реки. И он был справедлив и милосерд ко всем. Он изгнал злого Волшебника, а Лесорубу и его жене послал богатые дары, а сыновей их сделал вельможами. И он не дозволял никому обращаться жестоко с птицами и лесными зверями и всех учил добру, любви и милосердию. И он кормил голодных и сирых и одевал нагих, и в стране его всегда царили мир и благоденствие.
Но правил он недолго. Слишком велики были его муки, слишком тяжкому подвергся он испытанию – и спустя три года он умер. А преемник его был тираном.
К. Булычёв.Джинн в коробке.
1
Бухта казалась зловещей: обрывистые берега замыкали её с трёх сторон, бурунчики и белые пятна пены показывали, что к самой поверхности подходят зубцы скал. В бухте были предательские водовороты, но Стае за Алису не боялся - он знал, что, когда рядом дельфины, ничего не случится. И Алиса это знала, к тому же она была отличным ныряльщиком и могла три часа дышать под водой - для этого надо только проглотить пилюлю.
Алиса нырнула. Сверху вода была голубой, солнечной, с бликами, глубже она зеленела и темнела. Из глубины поднимались волосы длинных водорослей, рядышком проплыла медуза, и Алиса отпрыгнула, чтобы не обжечься. Дельфины крутились по соседству, гоняли стайку серебряной рыбёшки. Алиса опустилась к самому дну. Гришка скользнул рядом - не хотел терять Алису из виду. Алиса обогнула скалу, на ней открылась громадная ниша, словно гигант начал выгрызать нору в скале, но передумал.
Это место Алисе понравилось. Хорошо бы, подумала она, найти здесь галеру или даже затонувший город.
Издали легко было убедить себя, что обломки скал - руины дворцов, но, оглядев их, Алиса разочаровалась и решила подниматься на поверхность - великого открытия не произошло.
Только прежде стоило осмотреть длинную скалу в самой глубине ниши*, заваленную каменными глыбами.
Казалось, кто-то обтесал скалу, прежде чем кинуть сюда. А потом она обросла ракушками и лишайниками.
Алиса отодрала мидию* и удивилась: под ракушкой оказалась матовая ровная поверхность, похожая на металлическую.
Алиса медленно проплыла вдоль всей скалы. И где бы она ни скребла её, везде была такая же гладкая поверхность.
Сначала Алиса решила, что это потонувшая когда-то подводная лодка, но она никогда не слышала, чтобы подлодки были похожи на миндальный орех метров в двадцать длиной.
А вдруг это космический корабль?
Такая мысль Алисе понравилась. А почему бы и нет? Нашли же космический корабль, который упал на Землю триста тысяч лет назад в пустыне Калахари!
Но в космическом корабле должен быть люк.
Поиски люка заняли минут двадцать. Дельфинам надоело присматривать за подругой, и они поднялись выше. Иногда Алиса видела их тени, проносившиеся сверху.
Люк было трудно найти не только оттого, что он зарос ракушками, но и потому, что рядом с ним когда-то упал обломок скалы и намертво его заклинил.
Вытащить клин было нелегко, но когда Алиса наконец отвалила камень и соскребла ракушки, она увидела тонкую линию - границу люка.
Алиса вставила в эту нитяную щель остриё ножа, и, к её удивлению, люк легко открылся, словно только вчера был смазан. Внутри тоже была вода.
Алиса включила фонарь, прикреплённый ко лбу, и увидела по ту сторону камеры второй люк.
Гришка подплыл сверху, словно свалился с неба, но Алиса отогнала его, чтобы не мешал.
2
Алиса вошла внутрь и только дотронулась до внутреннего люка, как почувствовала за спиной движение воды. Она обернулась и увидела, что внешний люк быстро закрывается. Алиса повернула обратно, но опоздала. Люк закрылся.
Вода быстро уходила из камеры - через минуту в ней было сухо, над головой вспыхнул свет. Автоматика затонувшего корабля действовала.
Внутренний люк открылся, словно приглашая пройти внутрь, что Алиса и сделала.
Она оказалась в каюте. Перед ней был пульт управления, масса незнакомых приборов.
В дальнем конце каюты стояла ванна, наполненная зеленоватой жидкостью, и в ней плавало тело космонавта.
Алиса подошла к ванне и потрогала её рукой - ванна была холодной.
Над головой вспыхнул яркий свет, замигали огоньки.
Крылышки ванны начали сдвигаться.
Космонавт шевельнулся. Вот это везение! Алисе удалось не только найти потерпевший бедствие космический корабль с неизвестной планеты, но и освободить от заточения инопланетного путешественника!
Космонавт опёрся четырьмя длинными коричневыми руками о края ванны, поднялся.
Он был страшно худ, втрое тоньше нормального человека. Его лицо было сплющено с боков, словно в раннем детстве он старался пролезть сквозь узкую щель. Ушей вообще не было, а длинный подбородок заканчивался жидкой жёлтой бородой.
Наверно, для того, кто раньше с жителями других планет не сталкивался, вид этого несчастного пришельца показался бы неприятным, но Алиса знала, что в Галактике живут такие разные существа, что подходить к ним с земными мерками неразумно. Поэтому Алиса сказала:
- Здравствуйте, я очень рада, что нашла ваш корабль.
Говорила она на космолингве - галактическом языке, который отлично знала.
Космонавт сморщил лоб, потёр виски, казалось, он собирался с мыслями.
- Садитесь, - сказала Алиса, показывая на кресло. - Вам надо прийти в себя. Сейчас я отправляюсь за помощью, и вас поднимут на поверхность.
Пришелец ничего не ответил, но в кресло сел.
- Вы меня не понимаете или так давно упали, что ещё космо- пингвы не было?
Алиса говорила медленно, тихим голосом. Ведь это же траге- пия - столько лет провести под водой на чужой планете, без надежны, что тебя отыщут.
- Я всё понимаю, - проскрипел космонавт, словно его голос заржавел.
- Когда ваш корабль упал, - сказала Алиса, - сверху свалился камень и заклинил люк?
-Да.
- Какое счастье, что я на вас натолкнулась... -Да.
- Вы издалека к нам прилетели?
-Да.
- И давно? -Да.
Космонавт попался неразговорчивый.
Чтобы не быть навязчивой, Алиса сказала:
- Я поплыву, позову на помощь, чтобы ваш корабль подняли. Тут недалеко археологи работают, у них оборудование есть. Через час будете на берегу.
Алиса пошла к двери.
Дверь была закрыта.
- Откройте, пожалуйста, - сказала Алиса.
Космонавт молчал.
- Так что же вы? - спросила Алиса.
Космонавт медленно поднялся с кресла и подошёл вплотную к Алисе.
Она не успела опомниться, как он больно вцепился ей в плечо костлявыми пальцами и отбросил к стене.
- Стой здесь, - сказал он тихо.
- Что вы? - удивилась Алиса.
- Я не люблю повторять, - сказал космонавт. Он возвышался над Алисой, как живой скелет. От него попахивало гнилью. - Я прилетел сюда, чтобы покорить Землю. Это было две с половиной тысячи лет назад. Мой корабль приняли за падающую звезду, а буря, которая поднялась, когда я упал в море, погубила целый флот. Но меня завалило огромными скалами...
При воспоминании об этом космонавт поморщился.
- А зачем вам покорять Землю? - спросила Алиса.
- Потому что меня изгнали с моей собственной планеты, объявив тираном. Я хотел покорить Землю, набрать здесь армию и жестоко наказать тех, кто посмел поднять на меня руку...
- Но теперь-то поздно... - сказала Алиса.
- Никогда не поздно, - ответил тиран.
- Да и Земля уже не та, что была раньше. Вряд ли нас можно покорить.
- Да, Земля уже не та... - сказал тиран. - В первую тысячу лет я поклялся, что тому, кто меня спасёт, я подарю половину сокровищ Земли. Во вторую тысячу лет я решил, что оставлю ему жизнь. А в третью тысячу лет...
- Вы поклялись убить спасителя, - подсказала Алиса.
- Молчи. Сейчас убедишься, как близка твоя догадка к правде.
- А какой смысл меня убивать? - спросила Алиса.
- Смысл есть, - ухмыльнулся космонавт. - Я убью тебя и приму твой облик. Мне нелегко завоевать Землю в собственном обличии. А вот в твоей шкуре это будет нетрудно сделать.
- Да вы про меня ничего не знаете, - сказала Алиса. - Даже смешно.
- Я изучу твой мозг, прочту мысли, я разберу тебя на атомы и соберу снова. И всего-то мне на это понадобится час. Потом я поднимусь на поверхность, и судьба Земли будет решена.
Тиран подошёл к стене, нажал кнопку, и стена раздвинулась. Там обнаружилась ниша* со множеством приборов.
- Не пытайся сопротивляться, - сказал он, - тебе меня не одолеть. Никто не придёт к тебе на помощь. Никто не знает, что ты здесь... И гордись тем, что в твоём бывшем теле будет жить и действовать величайший тиран всех времён и народов.
- Нет, - быстро сказала Алиса, - когда я уплывала, я оставила записку, где меня искать. Мои друзья обязательно приплывут сюда.
- Тебя в то время уже не будет в живых, - сказал тиран. - Я их встречу в твоём облике и скажу, что нашёл космический корабль, а в нём мёртвого космонавта - моё бывшее тело. Всё продумано, девочка, всё продумано.
Космонавт начал готовить приборы, но в то же время не спускал с Алисы заднего глаза. Две руки трудились, две другие были предостерегающе протянуты к Алисе.
- Ничего у вас не получится, - сказала Алиса. - Мои друзья куда образованнее вас. Даже если вы меня убьёте, вас через два дня разоблачат.
- Что же, немало, - сказал тиран. - За два дня можно многое сделать.
- Вы даже не успеете вылезти наружу...
- Успею. Пока я лежал в анабиозе*, мои приборы наблюдали за всем, что творится вокруг. Я даже знаю, что ты плыла сюда с двумя громадными рыбами. Тебе не откажешь в смелости.
- Это же ручные дельфины, чего же их бояться? - сказала Алиса.
- Если они тебя не жрут, значит, они тебя боятся, — ответил тиран. - Другого пути нет. Все живые существа делятся на слабых и сильных, умных и глупых. Глупым и слабым положено быть в рабстве у сильных. Эти рыбы в рабстве у тебя. А ты у меня...
- Неправда! - воскликнула Алиса. - Ведь есть ещё утешение для слабых. Дружба с рыбами!
Он заскрипел, захохотал и стал приближаться к Алисе, протягивая тонкую иглу с мерцающим на конце белым огоньком.
- Не бойся, - говорил он, - ха-ха-ха! - Он всё ещё не мог насмеяться. — Всё будет мгновенно: удар тока - и тебя нет.
В это мгновение в дверь постучали. Сильно и уверенно. Тиран замер.
3
- Ты здесь, Алиса? - послышался голос Стаса.
Тиран отбросил иглу, схватил Алису и быстро прошептал:
- Молчи!
- Что случилось? - спросил Стае. - Почему ты не выходишь?
- Алиса у меня в плену, - сказал тиран. - Вы слышите? И если вы сюда войдёте, она погибнет. Мне нечего терять.
- Я хочу услышать голос Алисы, - сказал Стае.
- Я здесь, - сказала Алиса. - Извини, Стае, но я в самом деле у него в плену. Я не думала, что он хочет завоевать Землю.
- Всё нормально, - сказал Стае. - Я советую вам, любитель приключений, немедленно отпустить девочку и открыть дверь. Земля - не место для опытов над людьми.
- Соглашайтесь, - сказала Алиса. - Стае шутить не любит.
- А где гарантия? - спросил тиран.
- Мне надоело ждать, - сказал Стае.
И в то же мгновение по металлу двери кольцом прошла золотая искра, и круг металла диаметром в метр выпал внутрь каюты. За дверью стоял Стае с лазерным резаком в руке.
- Алиса, иди сюда, - сказал он.
Хватка тирана ослабла. К счастью, он не настолько обезумел, чтобы решиться на глупость.
За люком на дне стояли ещё три археолога и Пашка Герас- кин. Ждали. Поодаль крутились дельфины.
Гришка бросился к Алисе. Он выглядел виноватым - ещё бы, не усмотрел.
Когда все, включая пленного тирана, поднялись в катер, ожидавший на поверхности, Алиса сказала:
- Я виновата перед дельфинами.
- Да, уж они-то переволновались, — сказал Стае. Пашка добавил:
- Гришка с Медеей примчались к нам как сумасшедшие и бормочут, что с тобой беда. На них лица не было.
Мрачный тиран сидел, уткнув лицо в четыре руки.
- Как же они успели прибежать? Ведь всё было рассчитано, - бормотал он в отчаянии.
- Неужели вы ни чего не поняли? – удивилась Алиса. – Не все делятся на господ и рабов. Дельфины – мои друзья.
- Если бы не они, - добавил Пашка Гераскин, который завидовал, что не на его долю выпало такое удивительное приключение, - то завтра ты, Алиса, завоевала бы всю Землю. Была бы ты девочка – тиран.
Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес
из которой тем не менее можно кое-что узнать
Больше всего на свете я ненавижу обман и люблю честность и потому сразу честно признаюсь, что я вас (совсем немножко!) обманул: на самом деле это не НИКАКАЯ ГЛАВА, а НИКАКАЯ НЕ ГЛАВА - это просто-напросто... Думаете, так я вам и сказал? Нет, подождите. Вот дочитаете до конца, тогда узнаете! А не дочитаете - ну что ж, дело ваше. Только тогда - почти наверняка! – не сумеете правильно прочитать и всю книжку. Да, да!
Дело в том, что хотя перед вами - сказка, но сказка эта очень, очень
не простая.
Начнем с начала, как советует Червонный Король (вам предстоит с ним скоро встретиться). И даже немножко раньше: с названия.
"Приключения Алисы в Стране Чудес"...
Будь моя воля, я бы ни за что не назвал так эту книжку. Такое название, по-моему, только сбивает с толку. В самом деле - разве по названию догадаешься, что речь пойдет о маленькой (хотя и очень умной!) девочке? Что приключения будут совсем не такие, как обычно: не будет ни шпионов, ни индейцев, ни пиратов, ни сражений, ни землетрясений, ни кораблекрушений, ни даже охоты на крупную дичь.
Да и "Страна Чудес" - тоже не совсем те слова, какие хотелось бы написать в заглавии этой сказки!
Нет, будь моя воля, я назвал бы книжку, например, так: "Аленка в Вообразилии". Или "Аля в Удивляндии". Или "Алька в Чепухании". Ну уж, на худой конец: "Алиска в Расчудесии". Но стоило мне заикнуться об этом своем желании, как все начинали на меня страшно кричать, чтобы я не смел. И я не посмел!
Все горе в том, что книжка эта была написана в Англии сто лет тому назад и за это время успела так прославиться, что и у нас все - хотя бы понаслышке - знают про Алису и привыкли к скучноватому названию "Приключения Алисы в Стране Чудес". Это называется литературной традицией, и тут, как говорится, ничего не попишешь. Хотя название "Алиска в Расчудесии" гораздо больше похоже на настоящее, английское название этой сказки; но если бы я ее так назвал, люди подумали бы, что это совершенно другая книжка, а не та,знаменитая...
А знаменита "Алиса" действительно сверх всякой меры. В особенности в тех странах, где говорят по-английски. Там ее знает каждый и любят все. И самое интересное, что, хотя эта сказка для детей, пожалуй, больше детей любят ее взрослые, а больше всех - самые взрослые из взрослых - ученые!
Да, сразу видно, что это очень и очень непростая сказка!
Мало того. Написаны целые горы книг, в которых "Алису" на все лады растолковывают и объясняют. А когда так много и долго объясняют, это, по-моему, значит, что люди сами не все поняли.
Так что и вы не очень огорчайтесь, если тоже не сразу все поймете. Ведь всегда можно перечитать непонятное место еще разок, правда?
Я надеюсь, что я вас не слишком запугал. По совести говоря, бояться нечего.
Для того чтобы правильно прочитать, то есть понять, эту сказку,нужны только две вещи.
Нужно - и это совершенно обязательно! - иметь чувство юмора, потому что это одна из самых веселых книжек на свете.
Тут я за вас совершенно спокоен - уверен, что смеяться вы умеете и любите!
И нужно еще - и это тоже совершенно обязательно! - КОЕ-ЧТО знать.
Потому что если в голове пусто, увы, самое большое чувство юмора вас не спасет.
Вот маленький пример.
Есть у меня один знакомый, приблизительно двух лет от роду, у которого огромное чувство юмора - он может захохотать, когда никому другому и в голову не придет улыбнуться. Любимая его шутка (он сам ее придумал)такая:
- Андрюшенька, как говорит курочка?
- Му! Му! Му!
И Андрюшенька заливается смехом.
Но если вы ему скажете, что Ихтиозавр говорит: "Ах, батюшки мои!" - Андрюшенька и не улыбнется.
А все дело в том, что он очень плохо знаком с повадками Ихтиозавров.
Так вот, чтобы читать эту книжку по-настоящему - а читать ее по-настоящему - это значит читать и смеяться! - надо знать многое множество самых разных разностей.
Надо знать, кто такие АНТИПОДЫ и что такое ПАРАЛЛЕЛИ и МЕРИДИАНЫ, надо знать, КОГДА ЧТО СЛУЧИЛОСЬ и что такое ТКАНЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ; надо знать,из чего НЕ делается ГОРЧИЦА и как правильно играть в КРОКЕТ; кто такие ПРИСЯЖНЫЕ и чем они отличаются от ПРИСТЯЖНЫХ; и какого рода ВРЕМЯ, и курят ли червяки КАЛЬЯН, и носят ли Лягушки, Караси и Судьи ПАРИКИ, и можно ли питаться одним МАРМЕЛАДОМ и... и так далее и тому подобное!
Кстати, я не случайно упомянул Ихтиозавров - ведь они ископаемые, а всевозможные ископаемые в этой сказке встречаются на каждом шагу: например.
Короли и Герцогини, Графы и ЭРЛЫ (в сущности, это одно и то же). Лакеи и,наконец, вымершая птица Додо, она же ископаемый Дронт. Это и не удивительно - вы ведь не забыли, что, как я уже сказал, книжка была написана целых СТО лет назад!
Конечно, знать ВСЕ эти вещи, по-моему, никто не может - даже Малый Энциклопедический Словарь.
Советую внимательно прочитать примечания (они напечатаны мелким шрифтом) - это может кое в чем помочь.
Поэтому, если вам что-нибудь покажется очень уж непонятным (а главное, не смешным!), не стесняйтесь спрашивать у старших. Вдруг да они это знают?
А уж когда вам все будет совсем понятно, тогда вы, может быть, кое о чем задумаетесь...
Но это, впрочем, не обязательно.
Я надеюсь, что вам уже захотелось узнать, как появилась на свет такая необыкновенная сказка и кто ее сочинил.
Конечно, сочинить такую сказку мог только необыкновенный человек. Да и то неизвестно, сочинил бы он ее или нет, если бы не одна маленькая девочка, которую звали... Угадайте!.. Правильно, Алисой!
Да, именно Алиса потребовала во время лодочной прогулки от своего знакомого, мистера Доджсона, чтобы он рассказал ей и ее сестрам интересную сказку. И чтобы в этой сказке было побольше веселой чепухи. И видно, эта Алиса была такая девочка, которой очень трудно было отказать, потому что мистер Доджсон, хотя и был профессором математики (честное слово!) и к тому же в этот день уже сильно устал,- послушался. Он начал рассказывать сказку о приключениях одной девочки, которую тоже почему-то звали Алисой!
Надо отдать должное маленькой Алисе (я имею в виду живую Алису,полностью ее звали Алиса Плезенс Лиддел) - она хорошо знала, кого попросить рассказать сказку!
Взрослые, особенно те, которые всегда ничего не понимают, считали мистера Доджсона скучным человеком, сухим математиком, и, увы, даже студенты не особенно любили его лекции.
Но маленькая Алиса - как и все те дети в Англии, которым посчастливилось встретиться с мистером Чарльзом Лютвиджем Доджсоном (так его и звали, я этого не выдумал!),- прекрасно знала, что он вовсе не такой и все это неправда!
Разве можно было считать скучным человека, который умел сделать из носового платка мышь - и эта мышь бегала как живая! Человека, который из простой бумаги складывал пистолет,- и пистолет этот стрелял почти не худее настоящего! Разве можно было считать скучным такого необыкновенного выдумщика!
Он выдумывал не только сказки - он выдумывал головоломки, загадки,игрушки, игры, да еще какие! В некоторые из них играют и до сих пор. (Именно он придумал веселую игру, которая называется "Цепочка", или "Как сделать из мухи слона"; кто умеет в нее играть, легко может превратить НОЧЬ в ДЕНЬ или МОРЕ в ГОРУ. Вот так: МОРЕ - ГОРЕ - ГОРА. И все! Можете играть, только не на уроках!).
Особенно он любил и умел играть... словами. Самые серьезные, самые солидные, самые трудные слова по его приказу кувыркались, и ходили на голове, и показывали фокусы, и превращались одно в другое - словом, бог знает что выделывали!
И еще он умел переделывать старые, надоевшие стишки – переделывать так, что они становились ужасно смешными. Это, как вы знаете, называется пародиями.
И даже собственное имя (Чарльз Лютвидж, вы не забыли?) он переделывал до тех пор, пока оно не превратилось в то самое имя, которое значится на обложке сказки об Алисе и какого раньше не было ни у кого на свете: ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ.
И все это - выдумки, игры, загадки, головоломки, сюрпризы, пародии и фокусы,- все это есть в его сказке про девочку Алису.
Осталось добавить совсем немножко: как получилась русская книжка,которую вы сейчас читаете, и при чем тут я.
Как вы, наверное, догадались, книжка об Алисе - одна из самых моих любимых книг. Я читал и перечитывал ее не раз и не два - целых двадцать пять лет. Читал я ее по-английски: скажу по секрету, что ради нее-то я и выучил английский язык. И чем больше я ее перечитывал, тем больше она мне нравилась, но чем больше она мне нравилась, тем большая убеждался в том, что перевести ее на русский язык совершенно невозможно. А когда я читал ее по-русски (в переводах, их было немало, от них-то и пошло название "Алиса в Стране Чудес"), тогда я убеждался в этом еще больше!
Не то чтобы уж никак нельзя было заставить русские слова играть в те же игры и показывать те же фокусы, какие проделывали английские слова под волшебным пером Кэрролла. Нет, фокусы с грехом пополам еще получались, но что-то - может быть, самое главное - пропадало, и веселая, умная, озорная, расчудесная сказка становилась малопонятной и - страшно сказать - скучной. И когда друзья говорили мне:
- Пора бы тебе перевести "Алису"! Неужели тебе этого не хочется?
- Очень хочется,- отвечал я,- только я успел убедиться, что, пожалуй, легче будет... перевезти Англию!
Да, я был уверен, что все знаю про "Алису", и уже подумывал – не засесть ли мне за солидный ученый труд под названием "К вопросу о причинах непереводимости на русский язык сказки Льюиса Кэрролла", как вдруг...
Как вдруг в один прекрасный день я прочитал письмо Льюиса Кэрролла театральному режиссеру, который решил поставить сказку про Алису на сцене.
Там говорилось:
"...Какой же я видел тебя, Алиса, в своем воображении? Какая ты? Любящая - это прежде всего: любящая и нежная; нежная, как лань, и любящая, как собака (простите мне прозаическое сравнение, но я не знаю на земле любви чище и совершенней); и еще - учтивая: вежливая и приветливая со всеми, с великими и малыми, с могучими и смешными, с королями и червяками, словно ты сама - королевская дочь в шитом золотом наряде. И еще - доверчивая, готовая поверить в самую невозможную небыль и принять ее с безграничным доверием
мечтательницы; и, наконец,- любопытная, отчаянно любопытная и жизнерадостная той жизнерадостностью, какая дается лишь в детстве, когда весь мир нов и прекрасен и когда горе и грех - всего лишь слова, пустые звуки, не означающие ничего!"
И не знаю почему, когда я прочитал это письмо, мне так захотелось, чтобы и вы познакомились с этой прелестной девочкой, что я вдруг махнул рукой на свой "научный труд" и на все свои умные рассуждения и решил попробовать - только попробовать - рассказать о ней по-русски.
И вскоре я понял, что самое главное в книжке об Алисе - не загадки, не фокусы, не головоломки, не игра слов и даже не блистательная игра ума, а... сама Алиса. Да, маленькая Алиса, которую автор так любит (хоть порой и посмеивается над ней), что эта великая любовь превращает фокусы в чудеса, а фокусника - в волшебника. Потому что только настоящий волшебник может подарить девочке - и сказке! - такую долгую-долгую, на века, жизнь!
Словом, со мной вышло точь-в-точь как с одной маленькой девочкой, которая обычно говорила:
- Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу - тогда узнаю! Так и я. Когда я кончил рассказывать "Алису" и получилась та книжка, которая сейчас лежит перед вами, я и узнал, что я про нее по-настоящему думаю.
А теперь остается самое главное - что обо всем этом подумаете вы...
И чтобы это случилось поскорее, я поскорее заканчиваю эту ГЛАВУ (вы, конечно, давно догадались, что это всего-навсего ПРЕДИСЛОВИЕ!). Если я выполнил свое обещание и вы узнали КОЕ-ЧТО, мне очень приятно. А особенно приятно, что мне не надо тут писать слово "Конец", потому что ведь это только начало - начало книжки о приключениях Алиски в Расчудесии...
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой Алиса чуть не провалилась сквозь Землю
Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась: делать ей было совершенно нечего, а сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое; раз-другой она, правда, сунула нос в книгу, которую сестра читала, но там не оказалось ни картинок, ни стишков. "Кому нужны книжки без картинок.- или хоть стишков,не понимаю!" - думала Алиса.
С горя она начала подумывать (правда, сейчас это тоже было дело не из легких - от жары ее совсем разморило), что, конечно, неплохо бы сплести венок из маргариток, но плохо то, что тогда нужно подниматься и идти собирать эти маргаритки, как вдруг... Как вдруг совсем рядом появился белый кролик с розовыми глазками!
Тут, разумеется, еще не было ничего такого необыкновенного; Алиса-то не так уж удивилась, даже когда услыхала, что Кролик сказал (а сказал он: "Ай-ай-ай! Я опаздываю!"). Кстати, потом, вспоминая обо всем этом, она решила, что все-таки немножко удивиться стоило, но сейчас ей казалось, что все идет как надо.
Но когда Кролик достал из жилетного кармана (да-да, именно!) ЧАСЫ (настоящие!) и, едва взглянув на них, опрометью кинулся бежать, тут Алиса так и подскочила!
Еще бы! Ведь это был первый Кролик в жилетке и при часах, какого она встретила за всю свою жизнь!
Сгорая от любопытства, она со всех ног помчалась вдогонку за Кроликом и, честное слово, чуть-чуть его не догнала!
Во всяком случае, она поспела как раз вовремя, чтобы заметить, как Белый Кролик скрылся в большой норе под колючей изгородью.
В ту же секунду Алиса не раздумывая ринулась за ним. А кой о чем подумать ей не мешало бы - ну хоть о том, как она выберется обратно!
Нора сперва шла ровно, как тоннель, а потом сразу обрывалась так круто и неожиданно, что Алиса ахнуть не успела, как полетела-полетела вниз, в какой-то очень, очень глубокий колодец.
То ли колодец был действительно уж очень глубокий, то ли летела Алиса уж очень не спеша, но только вскоре выяснилось, что теперь у нее времени вволю и для того, чтобы осмотреться кругом, и для того, чтобы подумать, что ее ждет впереди.
Первым делом она, понятно, поглядела вниз и попыталась разобрать, куда она летит, но там было слишком темно; тогда она стала рассматривать стены колодца и заметила, что вместо стен шли сплошь шкафы и шкафчики, полочки и полки; кое-где были развешаны картинки и географические карты.
С одной из полок Алиса сумела на лету снять банку, на которой красовалась этикетка: "АПЕЛЬСИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ". Банка, увы, была пуста, но, хотя Алиса и была сильно разочарована, она, опасаясь ушибить кого-нибудь, не бросила ее, а ухитрилась опять поставить банку на какую-то полку.
- Да,- сказала себе Алиса,- вот это полетела так полетела! Уж теперь я не заплачу, если полечу с лестницы! Дома скажут: вот молодчина! Может, даже с крыши слечу и не пикну!
(Боюсь, что тут она была даже чересчур права!)
И она все летела: вниз, и вниз, и вниз! Неужели это никогда не кончится?
- Интересно, сколько я пролетела? - громко сказала Алиса.- Наверное, я уже где-нибудь около центра Земли! Ну да: как раз тысяч шесть километров или что-то в этом роде...
(Дело в том, что Алиса уже обучалась разным наукам и как раз недавно проходила что-то в этом роде; хотя сейчас был не самый лучший случай блеснуть своими познаниями - ведь, к сожалению, никто ее не слушал,- она всегда была не прочь попрактиковаться.)
- Ну да, расстояние я определила правильно,- продолжала она.- Вот только интересно, на каких же я тогда параллелях и меридианах?
(Как видите, Алиса понятия не имела о том, что такое параллели и меридианы,- ей просто нравилось произносить такие красивые, длинные слова.)
Немного отдохнув, она снова начала:
- А вдруг я буду так лететь, лететь и пролечу всю Землю насквозь? Вот было бы здорово! Вылезу - и вдруг окажусь среди этих... которые ходят на головах, вверх ногами! Как они называются? Анти... Антипятки, что ли?
Мы-то с вами, конечно, прекрасно знаем, что тех, кто живет на другой стороне земного шара, называют (во всяком случае, в старину называли) антиподами.
(На этот раз Алиса в душе обрадовалась, что ее никто не слышит: она сама почувствовала, что слово какое-то не совсем такое.)
- Только мне, пожалуй, там придется спрашивать у прохожих, куда я попала: "Извините, тетя, это Австралия или Новая Зеландия"?
(Вдобавок Алиса попыталась еще вежливо присесть! Представляете?, Книксен в воздухе! Вы бы смогли, как вы думаете?)
- Но ведь эта тетя тогда подумает, что я дурочка, совсем ничего не знаю! Нет уж, лучше не буду спрашивать. Сама прочитаю! Там ведь, наверно, где- нибудь написано, какая это страна.
И дальше - вниз, вниз и вниз!
Так как никакого другого занятия у нее не было, Алиса вскоре опять заговорила сама с собой.
- Динка будет сегодня вечером ужасно обо мне скучать! (Диной звали ее кошку.) Хоть бы они не забыли дать ей молочка вовремя!.. Милая моя Диночка, хорошо бы ты была сейчас со мной! Мышек тут, правда, наверное, нет, но ты бы ловила летучих мышей. Не все ли тебе равно, киса? Только вот я не знаю, кушают кошки летучих мышек или нет?
И тут Алиса совсем задремала и только повторяла сквозь сон:
- Скушает кошка летучую мышку? Скушает кошка летучую мышку?
А иногда у нее получалось:
- Скушает мышка летучую мошку?
Не все ли равно, о чем спрашивать, если ответа все равно не получишь, правда?
А потом она заснула по-настоящему, и ей уже стало сниться, что она гуляет с Динкой под ручку и ни с того ни с сего строго говорит ей: "Ну-ка, Дина, признавайся: ты хоть раз ела летучих мышей?"
Как вдруг - трах! бах! - она шлепнулась на кучу хвороста и сухих листьев. На чем полет и закончился.
Алиса ни капельки не ушиблась; она моментально вскочила на ноги и осмотрелась: первым делом она взглянула наверх, но там было совершенно темно; зато впереди снова оказалось нечто вроде тоннеля, и где-то там вдали мелькнула фигура Белого Кролика, который улепетывал во весь дух.
Не теряя времени, Алиса бросилась в погоню. Опять казалось, что она вот- вот догонит его, и опять она успела услышать, как Кролик, сворачивая за угол, вздыхает:
- Ах вы ушки-усики мои! Как я опаздываю! Боже мой!
Но, увы, за поворотом Белый Кролик бесследно исчез, а сама Алиса очутилась в очень странном месте.
Это было низкое, длинное подземелье; своды его слабо освещались рядами висячих ламп. Правда, по всей длине стен шли двери, но, к большому сожалению, все они оказались заперты. Алиса довольно скоро удостоверилась в этом, дважды обойдя все подземелье и по нескольку раз подергав каждую дверь. Она уныло расхаживала взад и вперед, пытаясь придумать, как ей отсюда выбраться, как вдруг наткнулась на маленький стеклянный столик, на котором лежал крохотный золотой ключик.
Алиса очень обрадовалась: она подумала, что это ключ от какой-нибудь из дверей. Но увы! Может быть, замки были слишком большие, а может быть, ключик был слишком маленький, только он никак не хотел открывать ни одной двери. Она добросовестно проверяла одну дверь за другой, и тут-то она впервые заметила штору, спускавшуюся до самого пола, а за ней...
За ней была маленькая дверца - сантиметров тридцать высотой. Алиса вставила золотой ключик в замочную скважину - и, о радость, он как раз подошел!
Алиса отворила дверцу: там был вход в узенький коридор, чуть пошире крысиного лаза. Она встала на коленки, заглянула в отверстие - и ахнула: коридор выходил в такой чудесный сад, каких вы, может быть, и не видывали.
Представляете, как ей захотелось выбраться из этого мрачного подземелья на волю, погулять среди прохладных фонтанов и клумб с яркими цветами?! Но в узкий лаз не прошла бы даже одна Алисина голова. "А если бы и прошла,- подумала бедняжка,- тоже хорошего мало: ведь голова должна быть на плечах! Почему я такая большая и нескладная! Вот если бы я умела вся складываться, как подзорная труба или, еще лучше, как веер,- тогда бы другое дело! Научил бы меня кто-нибудь, я бы сложилась - и все в порядке!"
(Будь вы на месте Алисы, вы бы, пожалуй, тоже решили, что сейчас ничего невозможного нет!)
Так или иначе, сидеть перед заветной дверцей было совершенно бесполезно, и Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь, что, может быть, там все-таки найдется другой ключ или, на худой конец, книжка: "УЧИСЬ СКЛАДЫВАТЬСЯ!" Ни того, ни другого она, правда, не нашла, зато обнаружила хорошенький пузырек ("Ручаюсь, что раньше его тут не было",- подумала Алиса, к горлышку которого был привязан бумажный ярлык (как на
бутылочке с лекарством), а на нем большими буквами было четко напечатано: "ВЫПЕЙ МЕНЯ!"
Конечно, выглядело это очень заманчиво, но Алиса была умная девочка и не спешила откликнуться на любезное приглашение.
- Нет,- сказала она,- я сначала посмотрю, написано тут "Яд!" или нет.
Она недаром перечитала множество поучительных рассказов про детей, с которыми случались разные неприятности - бедные крошки и погибали в пламени, и доставались на съедение диким зверям,- и все только потому, что они забывали (или не хотели помнить!) советы старших. А ведь, кажется, так просто запомнить, что, например, раскаленной докрасна кочергой можно обжечься, если будешь держать ее в руках слишком долго; что если ОЧЕНЬ глубоко порезать палец ножом, из этого пальца, как правило, пойдет кровь, и
так далее и тому подобное.
И уж Алиса-то отлично помнила, что если выпьешь слишком много из бутылки, на которой нарисованы череп и кости и написано "Яд!", то почти наверняка тебе не поздоровится (то есть состояние твоего здоровья может ухудшиться).
Однако на этой бутылочке не было ни черепа, ни костей, ни надписи "Яд!", и Алиса рискнула попробовать ее содержимое.
А так как оно оказалось необыкновенно вкусным (на вкус - точь-в-точь смесь вишневого пирога, омлета, ананаса, жареной индюшки, тянучки и горячих гренков с маслом), она сама не заметила, как пузырек опустел.
- Ой, что же это со мной делается! - сказала Алиса.- Я, наверное, и правда складываюсь, как подзорная труба!
Спорить с этим было трудно: к этому времени в ней осталось всего лишь четверть метра. Алиса так и сияла от радости, уверенная, что она теперь свободно может выйти в чудесный сад. Но все-таки она решила на всякий случай немного подождать и убедиться, что она уже перестала уменьшаться в росте. "А то вдруг я буду делаться все меньше, меньше, как свечка, а потом совсем исчезну! - не без тревоги подумала она.- Вот бы поглядеть, на что я буду тогда похожа".
И она попыталась вообразить, на что похоже пламя свечи, когда свеча погасла, но это ей не удалось,- ведь, к счастью, ей этого никогда не приходилось видеть...
Подождав немного и убедившись, что все остается по-прежнему, Алиса побежала было в сад; но - такая незадача! - у самого выхода она вспомнила, что оставила золотой ключик на столе, а подбежав опять к столику, обнаружила, что теперь ей никак до ключа не дотянуться.
И главное, его было так хорошо видно сквозь стекло!
Она попробовала влезть на стол по ножке, но ножки были тоже стеклянные и ужасно скользкие, и как Алиса ни старалась, она вновь и вновь съезжала на пол и, наконец, настаравшись и насъезжавшись до изнеможения, бедняжка села прямо на пол и заплакала.
- Ну вот, еще чего не хватало! - сказала Алиса себе довольно строго.- Слезами горю не поможешь! Советую тебе перестать сию минуту!
Алиса вообще всегда давала себе превосходные советы (хотя слушалась их далеко-далеко не всегда); иногда она закатывала себе такие выговоры, что еле могла удержаться от слез; а как-то раз она, помнится, даже попробовала выдрать себя за уши за то, что сжульничала, играя сама с собой в крокет. Эта
выдумщица ужасно любила понарошку быть двумя разными людьми сразу!
"А сейчас это не поможет,- подумала бедная Алиса,- да и не получится! Из меня теперь и одной приличной девочки не выйдет!" Тут она заметила, что под столом лежит ларчик, тоже стеклянный. Алиса открыла его -
и там оказался пирожок, на котором изюминками была выложена красивая надпись: "СЪЕШЬ МЕНЯ!"
- Ну и ладно, съем,- сказала Алиса.- Если я от него стану побольше, я смогу достать ключ, а если стану еще меньше, пролезу под дверь. Будь что будет - в сад я все равно заберусь! Больше или меньше? Больше или меньше? - озабоченно повторяла она, откусив кусочек пирожка, и даже положила себе руку на макушку, чтобы следить за своими превращениями.
Как же она удивилась, когда оказалось, что ее размеры не изменились!
Вообще-то обычно так и бывает с тем, кто есть пирожки, но Алиса так уже привыкла ждать одних только сюрпризов и чудес, что она даже немножко расстроилась - почему это вдруг опять все пошло, как обычно!
С горя она принялась за пирожок и довольно скоро покончила с ним.
Восьмое марта, праздник мам,
Тук-тук! - стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметем
На стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед,
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.
- Их не узнать! Вот это да! -
Тут мама скажет людям.
А мы всегда,
А мы всегда,
Всегда такими будем!
Р.Гамзатов. Мама
По- русски «мама», по-грузински «нана»,
А по- аварски ласково «баба».
Из тысяч слов Земли и океана
У этого - особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся песни,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
М. Исаковский. Колыбельная.
Месяц над нашею крышею светит,
Вечер стоит у двора.
Маленьким птичкам и маленьким детям
Спать наступила пора.
Завтра проснешься - и ясное солнце
Снова взойдет над тобой...
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной.
Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, -
Баюшки-баю-баю,
Пусть никакая печаль не тревожит
Детскую душу твою.
Ты не увидишь ни горя, ни муки,
Доли не встретишь лихой...
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной!
Спи, мой малыш, вырастай на просторе,
Быстро умчатся года.
Смелым орленком на ясные зори
Ты улетишь из гнезда.
Ясное небо, высокое солнце
Будут всегда над тобой...
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной!
Внеклассное чтение.
К. Булычев
Уже неделю в доме Селезневых жил заколдованный директор заповедника сказок Иван Иванович Царевич в шкуре серого козлика. Жизнь дома была сложной и нервной. С одной стороны, казалось бы, что такого? Одним животным в доме больше. Уже есть марсианский богомол, котенок, домработник Гриша… Входит, к примеру, в квартиру гость, слышит — топ-топ по коридору острые копытца. Из дверей выбегает козлик, острые маленькие рожки, бородка еще не выросла, смотрит на гостя жалобными глазами и молчит.
— Ах, — говорит гость, — новое животное завели? А чем он питается?
— Нет, — начинает Алиса, — он совсем не то, чем кажется…
И замолкает, потому что обещала козлику не раскрывать его ужасной тайны, не рассказывать каждому встречному-поперечному, что злой и неудачливый волшебник Кусандра, стараясь захватить в заповеднике власть, подсунул директору, доктору наук и профессору Царевичу вместо чая — воды из той самой волшебной лужи. Выпьешь ее, и превратишься в козлика.
Если объяснять это каждому гостю, то гость потребует продолжения истории и, может, даже ее счастливого завершения. А сделать это нельзя — ни продолжения, ни счастливого завершения эта история пока не имела. Кусандра успел прыгнуть в машину времени и пропасть в дебрях легендарной эпохи, которая затерялась где-то между третьим и четвертым ледниковыми периодами. Он унес с собой курочку Рябу, мешок с позолоченными яйцами и секрет спасения директора.
Расскажешь об этом гостям, начнутся пустые речи, что бы сделать, как бы придумать… а вот я знаю одного профессора… а вот я слышал, что на Альдебаране это лечат… Но, оказывается, нигде не лечат. Доказательство тому вчерашний консилиум. Консилиум означает собрание самых знаменитых врачей, биологов и генных инженеров, которые в кабинете Алисиного отца поставили на середину несчастного директора, глядели на него в микроскопы, телескопы и другие приборы, мерили ему давление, брали анализ крови, а потом каждый показывал, какой он знающий ученый.
— Во-первых, — сказал, опершись о трость, седой, объемистый, бородатый профессор Володин, — мы еще не установили, является ли наш пациент человеком или, простите, только козлом.
— Ой, — возмутилась Алиса, которую допустили на консилиум. — Вы же оскорбляете Ивана Ивановича! Вы думаете, что он не понимает, а он не глупее вас.
— Может быть, — сказал профессор Володин. — И тем не менее, научная проверка необходима, не так ли, коллеги?
И его коллеги склонили умные головы, потому что были настоящими учеными и ничего не принимали на веру.
Козлик тоже кивнул головой, потому что даже в таком диком виде он оставался ученый.
— Как же вы это проверите? — спросил отец Алисы Селезнев, директор космического зоопарка.
— Способ у меня простой, — сказал профессор Володин. Но он себя оправдывал в прошлом.
Профессор Володин расстегнул свой портфель, достал оттуда капустный лист и показал всем.
— Вы видите обыкновенный лист капусты, который я заимствовал у моей жены Гуленьки специально для этого опыта.
Профессор Тягамото с островов Люкю, расположенных в Бурном океане планеты Флукс, встал со своего кресла, достал лупу и внимательно исследовал лист капусты.
— Подтверждаю, — сказал он, — что перед нами лист растения, которое именуется на Земле капустой.
— Этот лист капусты я намерен предложить нашему пациенту, — сказал профессор Володин. — Капуста, как известно, излюбленная пища всех козликов.
Остальные профессора склонили головы, соглашаясь с профессором Володиным. Они тоже знали, что капуста — излюбленная пища козликов.
— Если перед нами обыкновенный козлик, — сказал профессор Володин, — то он без сомнения тут же начнет жевать этот лист капусты. Если же перед нами наш уважаемый коллега профессор Царевич, то он найдет в себе силы отказаться от листа капусты, чтобы мы поверили в то, что он — это он. Согласны ли присутствующие?
Присутствующие переглянулись, почесали бороды и лысины и согласились, что такое испытание внесет ясность.
Тогда профессор Володин обернулся к козлику, который стоял понурившись посреди кабинета, и спросил его:
— Уважаемый коллега, согласны ли вы с таким испытанием? Вы на нас не обидитесь?
Козлик наклонил голову и сказал коротко:
— Бе.
Профессора улыбнулись. Хоть они и считали себя обязанными провести такой опыт, им было неловко перед Царевичем, с которым они еще недавно встречались на научных конференциях и которого очень уважали.
Профессор Володин положил листок капусты на пол, и все стали смотреть на козлика.
Козлик поднял голову, обвел всех профессоров внимательным взглядом, потом поглядел на лист капусты. Алиса вдруг испугалась. Она-то была уверена, что козлик — это директор заповедника. А вдруг он обидится на профессоров за такое недоверие и съест лист им назло?
Под открытым окном послышался шум и топот — кто-то громадный и тяжелый шел по улице. Топот прервался у самого окна.
В комнате стало темнее, потому что в окне появился очень толстый человек в синем костюме и галстуке-бабочке, к которому была пришпилена небольшая золотая корона.
— Ничего не понимаю! — воскликнул профессор Володин. —Почему вы заглядываете с улицы прямо на второй этаж?
— Здравствуйте, — сказал толстый человек, — дело в том, что я приехал верхом на драконе.
И тут же рядом с толстым человеком появилась голова дракона, разверзла пасть, усеянную длинными, как карандашами, зубами, и сказала:
— Как дела?
Профессора были так поражены, что не могли поверить собственным глазам.
— Урра! — закричала Алиса. — Это толстый король и Змей Гордыныч к нам приехали!
— Кто они такие? — спросил профессор Тягамото и взял лупу.
— Они из заповедника сказок, — сказала Алиса. — Разве непонятно? Где еще могут у нас жить драконы и короли? Дракон мой друг, а король исполняет обязанности директора, пока мы не расколдуем Ивана Ивановича.
— Совершенно верно, — сказал король. — К вашим услугам.
Тут он заметил козлика, который радостно заблеял при виде старых знакомых, и поклонился ему:
— Как ваше самочувствие, Иван Иванович?
— Простите, — сказал тогда седой профессор Кармайкл из Оксфорда. — Это ни на что не похоже! У меня создается впечатление, что здесь хотят повлиять на наше научное мнение. Надеюсь, что мы и без помощи драконов выясним, козлик стоит перед нами или директор.
— Нам нельзя мешать, — сказал профессор Володин. — У нас консилиум.
— Я считаю, что драконам здесь делать совершенно нечего, —сказал профессор Тягамото. — У вас есть вопросы к нашему пациенту?
— Мы подождем, — сказал толстый король, — вы не беспокойтесь. Мы тут в тенечке отдохнем, пока вы беседуете. Тысяча извинений.
Король верхом на драконе отъехал от окна. Дракон остановился на другой стороне улицы под тенью большого дуба и принялся щипать одуванчики. Профессора покачали головами и вернулись к своим делам.
— Ну и каково будет ваше решение, коллега? — обратился профессор Володин к козлику.
Козлик посмотрел на него, подмигнул и подобрал с пола лист капусты. Он хрупал листом капусты, смаковал его, пережевывал, заглатывал, а профессора смотрели на него в полном изумлении. Они ждали чего угодно, только не этого.
Козлик доел лист капусты и снова поглядел на профессоров. Профессора опустили глаза.
— Неужели вы не понимаете, — воскликнула Алиса, — что Иван Иванович съел этот листок, потому что обиделся на вас?! Неужели это непонятно?
— С одной стороны, — сказал профессор Тягамото, — мы понимаем чувства Ивана Ивановича. Но с другой — опыт есть опыт. И если судить по опыту, получается, что перед нами самый обыкновенный козлик.
— Да, Иван Иванович, — сказал профессор Володин, который был очень расстроен. — Вы нас подвели. Вы нас, можно сказать, поставили в тупик.
— Бээээ, — сказал козлик, как будто засмеялся. И никто из ученых не догадался, что Иван Иванович съел этот лист капусты просто потому, что ему захотелось капусты. Какой бы ты ни был профессор и директор, но если ты в козлиной шкуре, то любишь капусту. Вот поэтому Иван Иванович и съел этот злополучный листок.
— Что ж, — сказал, наконец, самый старый и самый мудрый профессор Кармайкл-младший. — Мы должны оценить чувство юмора нашего коллеги козлика Ивана Ивановича и попросить у него прощения.
Он строго посмотрел на профессора Володина, и все профессора строго посмотрели на профессора Володина, а профессор Володин смутился, достал из портфеля второй лист капусты и протянул козлику. Козлик кивнул головой, поблагодарил и съел лист.
— Теперь, когда нам ясно, что перед нами все же наш коллега, а не просто козлик, — сказал профессор Тягамото, — мы можем обсудить, как его вылечить.
Профессора спорили целый час. Козлик устал и лег спать. Они так и не достигли согласия. А их предложения были такими.
Первое предложение. Сделать козлику искусственное горло, чтобы он мог говорить. Даже еще лучше — руки, чтобы он мог писать свои научные труды.
Второе предложение. Заморозить козлика на то время, пока наука не научится превращать козликов в людей.
Третье предложение. Сделать искусственного человека, как две капли воды похожего на Ивана Ивановича, и посадить в него козлика, как в одежду. И все будут думать, что это Иван Иванович.
И еще двадцать три подобных предложения.
А самое последнее предложение, когда все профессора уже охрипли, сделала Алиса:
— Надо, — сказала она, — расколдовать козлика.
Разумеется, профессора зашикали на девочку, рассердились и попросили ее выйти из комнаты. Ни один из профессоров не верил в сказки и колдовство.
И правильно делали. Если бы они верили, то не были бы профессорами, а наука зашла бы в тупик.
Внеклассное чтение.
В.Одоевский. Городок в табакерке.
Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, — и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.
— Что это за городок? — спросил Миша.
— Это городок Динь-Динь, — отвечал папенька и тронул пружинку...И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям — не из другой ли комнаты? и к часам — не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол... Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
— Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
— Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
— Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается...
— Право, мой друг, там и без тебя тесно.
— Да кто же там живёт?
— Кто там живёт? Там живут колокольчики.
С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки и валик, и колёса... Миша удивился: «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» — спрашивал Миша у папеньки.
А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?
Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
«Да отчего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».
— Извольте, с величайшею радостью!
С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
— Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?
— Динь-динь-динь, -отвечал незнакомец, -я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.
Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды — чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
— Я вам очень благодарен за ваше приглашение, — сказал ему Миша, — но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, — там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
— Динь-динь-динь! — отвечал мальчик. — Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.
Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.
— Отчего это? — спросил он своего проводника.
— Динь-динь-динь! — отвечал проводник, смеясь. — Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь — большое.
— Да, это правда, — отвечал Миша, — я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.
Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь рисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:
— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?
— Уж у нас поговорка такая, — отвечал мальчик-колокольчик.
— Поговорка? — заметил Миша. — А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.
Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова.
Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.
— Нет, теперь уж меня не обманут, — сказал Миша. — Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.
— Ан вот и неправда, — отвечал провожатый, — колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.
Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
— Весело вы живёте, — сказал им Миша, — век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.
— Динь-динь-динь! — закричали колокольчики. — Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы — ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.
— Да, — отвечал Миша, — вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься — всё не мило. Я долго не понимал; отчего это, а теперь понимаю.
— Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
— Какие же дядьки? — спросил Миша.
— Дядьки-молоточки, -отвечали колокольчики, — уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук!
поднимай!
задевай! тук-тук-тук!». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
— Какой это у вас надзиратель? — спросил Миша у колокольчиков.
— А это господин Валик, — зазвенели они, — предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.
Миша — к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:
— Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!
— Это я, — храбро отвечал Миша, — я — Миша...
— А что тебе надобно? — спросил надзиратель.
— Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают...
— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры...
— Ну, многому же я научился в этом городке! — сказал про себя Миша. — Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! — думаю я. — Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.
Между тем Миша пошёл далее — и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:
— Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
— Зиц-зиц-зиц, — отвечала царевна. — Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц. Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком — и что же?
В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и... проснулся.
— Что во сне видел, Миша? — спросил папенька.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? — спрашивал Миша. — Так это был сон?
— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере что тебе приснилось!
— Да видите, папенька, — сказал Миша, протирая глазки, — мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась... Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
— Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.
Тема раздела: Наша планета Земля
М. Ауэзов. Сирота.
Хмурый вечер середины лета. У подножья гор Улытау сумрачная прохлада. Еле шевелит травы лёгкий ветерок. Солнце садится. В долине сгущаются тени. На горизонт грузно легли тяжёлые тучи, и лучи заката, пробиваясь сквозь них, красят притихшие холмы в тёмно-багровый цвет, отчего они кажутся грустными, сиротливыми. Иногда луч вспыхнет ярко, предгорье оживёт на мгновенье, и снова всё вокруг мрачно и холодно.Три всадника едут по холмам. Они не спешат, но всё же иногда с опаской поглядывают на чёрную тучу, надвинувшуюся на горы. Там идёт дождь.
Тоскливую тишину засыпающей долины нарушила песня одного из путников. Её подтянули другие. Заунывно-протяжная песня казалась долгим возгласом великого смирения и терпения. Словно откликаясь на окружающее, песня то взмывала задорно и звонко, то снова текла уныло-однообразной дремотной мелодией. Песня как бы повторяла игру лучей уходящего солнца, которое бросало на вершины холмов крупные золотисто- алые мазки, а через мгновенье вдруг тускнело и скрывалось за тучами.
Очевидно, стремясь сократить путь, всадники не свернули на широкую просёлочную дорогу, ведущую мимо аулов, а поехали по петляющей среди холмов узенькой тропинке.
В то же самое время с противоположной стороны долины навстречу всадникам торопливо шёл одинокий мальчик лет десяти- одиннадцати. На лице его застыла неутешная печаль, большое недетское горе. Всё вокруг кажется ему холодным, чужим, жестоким. Задумчиво-грустные вершины холмов, окутанная сумраком долина, дикие ущелья, молчаливо хранящие тайны ночи, нагоняют страх, который сжимает сердце.
Что же заставляет мальчишку на ночь глядя идти одного в незнакомые места? Кто гонит его? Заставляет его, гонит его - судьба.
Год назад умерла бабушка Касыма. Незадолго до этого скончались родители. Тяжёлое то было горе, но тогда у него оставалась бабушка, было кому утешить. Да он и не понимал всей тяжести утраты, всего ужаса постигшей его беды, и если плакал, то больше потому, что плакали другие. Смерть бабушки он переживал куда тяжелее. Теперь он один, совсем один, некому приласкать, некому осушить слёзы. В этот день мальчику показалось, что само небо всей своей тяжестью легло на его хрупкие плечи.
Близких родственников у Касыма не было. Бабушку хоронили миром. Не было траурной процессии, никто не оплакивал её. Только Касым, безудержно плача, громко причитал:
- Бабуленька, родненькая! На кого ты меня покинула?.. Почему ты не взяла меня с собой?! Теперь я совсем сирота...
Слушая его рыдания, присутствующие тоже вытирали невольные слёзы, они знали, какова тяжкая сиротская доля.
Смерть бабушки была для Касыма самой большой утратой. Он так привык к ней, к её ласковому взгляду, к лёгкому прикосновению её рук, к тому, что она всегда с ним. Он любил вечером приласкаться к ней, положить голову на колени и сидеть так долго - долго.
Старуха понимала, как невыносимо трудно будет Касыму одному, знала, что его ожидает, и, собрав все свои силы, старалась, чтобы ничто не омрачало сиротскую жизнь мальчика. С какой-то странной улыбкой смотрела она на Касыма, когда тот ласкался к ней, - казалось, всю боль и жалость вкладывала она в эту улыбку.
Хотелось ли ей жить? Что и говорить, очень хотелось. Хоть бы дожить до совершеннолетия Касыма. «О господи! - молилась она. - Продли мои дни, пока окрепнут ноги моего жеребёночка. Не оставь его одного на произвол судьбы!» С этой молитвой на устах старуха и умерла.
Оплакав бабушку, Касым, глядя на взрослых, соблюдал траур. Тоска одиночества и бесприютность мучили его. Чуть вспомнит мать, отца, бабушку, и они встают перед глазами как живые. Часто Касым брал палку, уходил в степь и там звал родных. Но никто не приходил, даже не откликался, и мальчик снова горько плакал.
Часто, вконец уставший, измученный, он засыпал прямо в степи. И тогда к нему возвращалось счастье - приходил отец, мать, бабушка. Они ласкали его, обнимали, целовали. Бабушка, ероша его жёсткие волосы, приговаривала: «Теперь мы больше не умрём. Твои слёзы вернули нас к жизни. Ты уже не беззащитный, и больше плакать не надо».
Касым радовался во сне, припадал к материнской груди и по- детски жаловался: «Зачем ты обижала меня, зачем не откликалась и заставляла плакать?»
Тут Касым просыпался. Он понимал, что это был сон, и всё же не хотел верить, что родители больше никогда не придут к нему. В душе мальчика теплилась надежда, что хоть кто-нибудь из них да вернётся.
Шли дни. Для Касыма это были горькие, сиротские дни. Но как ни цепка детская память, а время делает своё. Забывались отец и мать, стала забываться и бабушка. Кочуя, род всё дальше и дальше уходил от её могилы, черневшей одиноким холмиком на склонах Улытау.
Шли месяцы. И время, прожитое с бабушкой, овеянное её лаской, осталось в памяти Касыма как неясное воспоминание, как сладкий сон, который не повторится. Увлекательные, полные волшебства сказки бабушки, её щемящие душу тихие и протяжные песни тоже ушли безвозвратно. Всё погасло, как гаснет солнце на закате, и сплошной мрак окружил сироту.
После смерти бабушки Касыма, будто бы из жалости, взял к себе их сосед Иса. Забрал он и скот, доставшийся мальчику в наследство, - десятка три баранов, несколько коров и лошадей.
Соседи говорили Исе: «Не зарься на сиротское добро. Раз берёшь к себе Касыма, не обижай его, вырасти человеком!»
Детей у Исы и своих было много, а скота почти не было. Ни он, ни его сварливая жена Кадиша не вняли советам соседей. Они сразу же стали распоряжаться этим скотом, как своим собственным.
Будь всё ладно в новом доме, может, и не знал бы ничего об этом Касым. Да не очень рады были ему в семье Исы. Как-то поздней ночью, когда все дети улеглись и только Касым, видно, из-за непривычной обстановки, не мог уснуть и лежал, укрывшись с головой ветхим одеялом, он услышал разговор Исы и Кадиши. Они решали, как распорядиться наследством Касыма.
- Черноголового барана и серую кобылу зарежем на зиму, корову продадим и справим детишкам одежонку, - говорила Ка- диша. - А то совсем обносились.
Касым заплакал, громко всхлипывая и шмыгая носом. Но на него никто не обратил внимания. Иса и Кадиша продолжали свой разговор.
С того дня Касым всё больше и больше стал задумываться о себе, о своём горе. Но поделиться ему было не с кем. Да и кто мог помочь? Сердобольные соседки да всевидящие старики сами замечали всё. Иногда говорили Касыму:
- Смотри будь хозяином, а то не останется у тебя скота, всё сожрёт Иса! - Но потом, как бы опомнившись, добавляли: - Дитя ещё! Ну что он может сделать?
Касыму нечего было возразить им. Сиротство, как тяжёлый камень, давило его всё больше и больше. Прошло немного времени, и Касым, круглолицый и крепкий, любознательный и весёлый, превратился в худенького, хмурого, убитого горем мальчика. Весь его вид говорил о заброшенности и несчастье.
Настали те дни, которых больше всего опасалась бабушка Касыма. Внук остался один, всем чужой. Ису интересовал только его скот, которым можно было воспользоваться. И он воспользовался.
- Пожалейте сироту! Грешно резать мой скот! - сквозь слёзы закричал Касым, когда Иса собрался вести на убой серую кобылу.
Мальчик обхватил её за шею и заплакал. В ответ он получил от Исы и Кадиши несколько увесистых тумаков. Вдобавок его оставили без обеда.
Дети Исы были избалованные. При каждом удобном случае они всячески издевались над Касымом. Отец и мать не запрещали им этого. Наоборот, всю работу по дому они сразу же свалили на сироту. На целый день отправляли они Касыма в степь собирать кизяк. Мальчик так уставал, что, придя домой вечером, падал и засыпал как убитый. Оправдывая безделье своих детей, Иса ещё выговаривал Касыму: «Ведь скот твой, вот и работай. У них ничего нет, могут и порезвиться».
Аульные ребята тоже не дружили с сиротой. Касым, видя, что в ауле все забыли о нём, что никто не принимает никакого участия в его судьбе, замкнулся. Он ни с кем не вступал в разговоры, избегал людей. Мальчик ещё больше похудел, лицо его стало желтовато-серым.
Тихий и покорный, он всё больше погружался в своё одиночество, в нём росли подозрительность, недоверие к людям. Эти чувства подтачивали его силы, ломали душу. Голод, нищета, изнурительная работа всё больше озлобляли мальчика. Не было дня после смерти бабушки, когда бы жизнь подарила ему хоть маленькую радость. Касым и с виду стал похож на маленького старичка, и душа его с каждым днём дряхлела.
Кадиша, любящая мать своих детей, была для Касыма воплощением зла. Ежедневные побои, постоянная ругань. «Ах ты, негодяй!.. Ах ты, бездомная собака!..» - иных слов сирота от неё и не слышал.
Сейчас, беспросветной тёмной ночью, Касым идёт один по горной тропинке, далеко от дома. Иса и Кадиша ещё утром избили его и прогнали из аула. Но перед закатом солнца Касым всё-таки вернулся домой. Силы иссякли, хотелось забиться куда-нибудь в уголок и хоть полежать тихонько, смежив веки. Но перед юртой стоял разъярённый Иса. Не говоря ни слова, он стал снова избивать мальчика. И тогда терпенье Касыма иссякло.
— В чём я виноват? За что ты истязаешь меня?.. Что я должен тебе?.. Вся моя вина в том, что я сирота, что за меня некому заступиться!.. - злобно выкрикнул он и, схватив увесистый булыжник, швырнул в Ису, а сам что есть мочи кинулся бежать в степь.
Иса схватился за колено и грузно сел, посылая вслед Касыму грязные ругательства. Дети Исы выскочили из юрты и, прихватив камни, бросились вдогонку за Касымом, но он был уже далеко. Он бежал в горы.
Ясно, что в аул ему теперь возвращаться нельзя. Касым подумал, что давно не был на могилах родителей, и направился в сторону прошлогодней зимовки. Он вспомнил, как хотел в день поминок зарезать на кладбище, у родных могил, барана, угостить бедняков, а муллу попросить почитать Коран, но Иса и Кадиша обругали его за это и не позволили резать скотину.
Сейчас Касыму некуда было идти, и он твёрдо решил одолеть перевал, добраться до прошлогодней зимовки, пойти на кладбище, припасть к надгробным камням и хоть нареветься вволю, выплакать своё горе.
Туда и шёл он сейчас по горной тропинке, тёмной ночью, один.
Видя, что темнота сгущается, Касым ускорил шаг, затем побежал. Озираясь по сторонам, вздрагивая от страха, он бежал, надеясь хоть кого-нибудь встретить. Но вокруг ни души. Глухая ночь.
В раннем детстве Касым наслушался от бабушки страшных рассказов о чертях и ведьмах, драконах и всякой нечистой силе, которая бродит по земле тёмными ночами. В рассказах вся эта нечисть не раз пугала путников, сбивала с пути и уводила то в пропасть, то в трясину. Касым вспомнил всё это, и ему стало страшно. Он дрожал, как в лихорадке, сердце стучало часто и громко, ноги отяжелели и не слушались его.
Окутанные мраком каменные глыбы кажутся пристанищем злых духов. На мгновенье вспыхивает свет. Но после него темнота кажется ещё гуще, она, как ведьма, сразу же поглощает не только ночные сполохи*, но и саму луну. Страх прячется и в таинственных ущельях, и между обнажённых скал; в густой листве деревьев тоже скрывается что-то ужасное и выжидает момента, чтобы броситься на тебя. Касыму казалось, что ночь пристально глядит на него тысячами чёрных страшных глаз из-под каждого камня, из-под каждого куста. А по горам бредёт звездоглазая, каменнобровая, с лицом чёрным, как ночь, злая старуха, шепчет какие-то заклинания и громко чихает.
Нет, он ослышался. Вокруг тихо, только изредка птица захлопает крыльями или зашуршит в листве. Касым почувствовал себя ещё более одиноким. Вдруг, словно зная о том, как боится Касым темноты, словно догадываясь, как мрак сжимает его сердце, в стороне что-то сверкнуло. Дорога проходила рядом с небольшим леском. Касым замер. И тут почти из-под ног что-то шарахнулось в сторону. Холод пополз по спине. Мальчик не мог сдвинуться с места.
Это была птица. Просто глупая птица. Но Касыму показалась она чем-то страшным, неземным. Ангел? А может быть, чёрт? Чтоза нечистая сила преграждает ему путь? А может, это человек?.. Касым тихонько кашлянул. Но ответа не последовало, и мальчик медленно двинулся вперёд. Он сделал всего несколько шагов, как кто-то с гиком и хохотом бросился на него и с маху хлестнул по лицу. Касым закрыл глаза. Когда он осмелился открыть их, то увидел устремлённый на него взгляд двух огненных глаз... Перед ним стоял долговязый и тощий человек. Из-под выпяченных губ видны длинные зубы. В руках длинный нож. «Это, наверно, и есть степной шайтан», - подумал Касым. В это время чудовище крикнуло повелительно:
- Шагай за мной! Иди, несмотря на усталость и слабость. Оцарапаешь ноги, разобьёшь в кровь пальцы об острые камни - всё равно иди. Ну, марш за мной! - И чудовище зашагало вперёд.
- Дяденька, я сирота... - отозвался Касым, но на него снова грозно блеснули огненные глаза. И Касым побежал, побежал сломя голову, не обращая внимания ни на что.
...Близилась полночь. Трое всадников ехали по взгорью, слегка поторапливая лошадей. Тропинка была узкая, и кони шли гуськом. Вдруг у небольшого леска, густым кустарником подступавшего прямо к дороге, головная лошадь остановилась, запрядала ушами*, коротко заржала и стала пятиться. Остановились и другие.
Туча всё же догнала путников. Рванул ветер, и хлестнул дождь. Сверкнула молния. И тут всадники увидели мальчика. Он стоял, прислонившись к дереву, и не двигался. Успокоив лошадей, всадники подъехали ближе. Окликнули, но мальчик не отозвался. Тогда они спешились и подошли к дереву. Один из них тронул мальчика за плечо, и тот навзничь свалился в траву. Он был мёртв.
О. Сулейменов . Яблоки .
...Приехал я в край,
где лишь пихты и ели,
где ели от тяжести неба присели,
где между стволами
ветры белели,
их называли так нежно: «метели»...
В землянку вошёл (называли
«забоем»)
вошёл, полметели втащив за собою,
недобро, вполглаза меня осмотрели
мужчины лохматые, как метели.
Я сел возле печки,
где буры и дрели,
лежали недвижно четыре недели,
ладони погрел,
рюкзак развязал —
и все повернулись,
и все посмотрели.
Откуда вдруг солнце
в холодной землянке?
Это теплее печки-времянки
вспыхнул румяный
сияющий запах,
и люди привстали на войлочных лапах.
Мужчины, лохматые, как метели,
злые на всё за четыре недели,
в грубых ладонях яблоки грели,
яблокам в щёки,
как детям смотрели —
арыки, ущелья, проспекты, аллеи!..
Мама, в саду так не пахли они,
как в эти таёжные зимние дни.
Н. Сладков. Разноцветная земля.
Белая земля.
Арктика.
Ледяные поля. То сияют в свете дня, то тонут во мраке ночи. И какой ночи – полярной! Длиною в пол года. Непроглядной и черной. Лишь сверкают на небе разноцветные сияния: зеленые, синие, красные. Да вверху непонятные шорохи, шёпоты, словно в небе шепчутся звезды. А это шепчет мороз…
Но приходит конец и бесконечной ночи. Однажды краешек солнца покажется… свет ещё багровый и тусклый. Но как все рады солнцу и свету! Начинается праздник солнца, праздник весны. В Арктику пришел день.
День не простой – полярный. Тоже длиною в полгода….
Седая земля.
Тундра.
Равнина седая, унылая и серая. И небо над ней серое, скучное и сырое. Мох, кочки, лужи….
Если и встретишь лес – то высотой по колено. Ивы, березы толщиной с карандаш…
Тут за день пять погод: сеет, веет, поливает и посыпает. Приползет туча – накроет тундру холодная тень. За ней вторая – спрыснет частым дождем. Третья пробарабанит крупой ледяной. Четвертая снегом засыплет. Хорошо, если пятая мимо пройдет – тогда опять солнышко и тепло.
Ярче всего тундра летом. На лужайках пестрые птицы: белые, черные, рыжие. На кочках яркие цветы: синие, красные, желтые. Но лучше всего тундра в весенние вечера. Равнина становится темной, а огромное небо над ней – золотым.
Зеленая земля.
Тайга.
Тайга –самый огромный на земле лес. Царство колючей хвои. Сосны, кедры, пихты и ели… Сыро, сумрачно, глухо… ни ярких цветов, ни пестрых бабочек. Не видно птиц, не слышно зверей. Все прячутся.
Хорошо смотреть на зеленую тайгу с горы.
Там светлые боры –сосняки. Тут темные пятна ельников. Голубые извивы рек… желтые болота… самый большой лес на земле. Тайга.
Серебристая земля.
Степь.
Степь, как море. Катятся по степному ковыльному морю волны... Струится и течет горячая степь куда-то за горизонт.
Клонятся на ветру ковыли… И ветер, как беркут, мчит на распахнутых крыльях…
Но чудо чудное – степь на закате! Навстречу закатному солнцу, словно розовые языки огня, стелются пушистые ковыли…..
Желтая земля.
Пустыня.
Пустыня – это желтое и голубое. Пески и небо. Земля, опаленная солнцем. Всюду сугробы золотого песка. Топкие болота, засыпанные белой солью. Кусты, похожие на мотки колючей проволоки, цветы, протыкающие пальцы шипами. Камни, почерневшие от солнца и лопнувшие от жары.
В пустыне все непривычно и непонятно.
Озера без воды. Реки никуда не впадают. Дожди высыхают, не долетев до земли.
Под деревьями нет тени…
Хорошей погодой тут называют пасмурную и сырую…
Земля без земли. Текучее море песков…Страна солнечного огня.
Пестрая земля.
Горы.
На горы, как и на море, можно смотреть и смотреть.
Внизу лиственные леса… Выше – леса темные, хвойные… еще выше – горные зеленые степи, луга. Над лугами поднялись серые скалы. А на самом верху, выше скал и облаков, - вечные сияющие снега!
Все в горах необычно. Земля, вставшая на дыбы. Облака и птицы пролетают глубоко под ногами, а реки и водопады шумят высоко над головой. Бывает, внизу хлещет дождь, наверху светит солнце. Внизу жаркое лето, наверху морозная зима. И от зимы до лета рукой подать.
Разноцветная вода.
И вот перед нами вода: реки, моря, озера.
И вода разноцветная: синяя, голубая, зеленая.
Нависнет над морем гроза, и станет море мрачным и черным. Солнце проглянет – снова все лазоревое и веселое. Красным становится море под багровым закатом. И золотым, если восход золотой…
Полный месяц встал над лугом
Неизменным дивным кругом,
Светит и молчит.
Бледный, бледный луг цветущий,
Мрак ночной, по нем ползущий,
Отдыхает, спит.
Жутко выйти на дорогу:
Непонятная тревога
Под луной царит.
Хоть и знаешь: утром рано
Солнце выйдет из тумана,
Поле озарит,
И тогда пройдешь тропинкой,
Где под каждою былинкой
Жизнь кипит.
С. Есенин. С добрым утром!
Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.
Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
"С добрым утром!"
И. Бунин . Детство.
Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок - как шелк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол - гигант, тяжелый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но как тепла, как солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного лета.
Внеклассное чтение.
К. Паустовский. Дремучий медведь
Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети-большого – Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.
– Все тормошила тебя, веселила, – говорила бабка Анисья, – да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.
Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.
Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.
А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист – узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки – дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив – и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.
Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.
На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобер зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.
Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобер оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.
А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семен-чаевник рассказал Пете, что бобер сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.
В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно: Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича – такой же остроносый и с шустрым черным глазом, – колотил и колотил со всего размаху клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся: до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву – не теряет веселости.
“Может, голова у него и не болит, – думал Петя, – но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли – бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!”
Пониже птиц, над всякими цветами – и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, – летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.
Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?
И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега – и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.
Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.
Деревья тихонько шумели навстречу Пете – помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.
Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: “С дороги! С дороги!”, рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.
– Вот и я! – говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щеки. – Здравствуйте!
– Дра! Дра! – отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как “здравствуйте”. На это не хватало у нее вороньей памяти.
Все звери и птицы знали, что живет за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в желтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, – зеленые, будто у молодого.
Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная – со дна реки били ледяные ключи, – и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.
Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья – шуметь, рыбы – бить хвостами по воде, шмели – грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.
А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.
С каждым днем медведь сердился все сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло – одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь – так и там одна только пыль.
– Беда-а-а! – рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. – Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой – и весь разговор!
От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом – только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.
“Неужто не переплыву? – сомневался медведь. – Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал, и то не боялся”.
Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и, наконец, решился – прыгнул в воду, ахнул и поплыл.
Петя в то время лежал под кустом, а телята – глупые они еще были – подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывет по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень.
Первой после телят заметила медведя ворона.
– Карраул! – крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. – Звери, воррр!
Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву: посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.
Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя – ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:
– Погоди, сейчас вылезу на бережок – все кости твои пересчитаю. Что выдумал – старика кнутом бить!
Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: “Подсобите!” – и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. “Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?” – подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.
Но не успел он это подумать как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: “Не-ет, брат, шутишь!”
Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.
– Это что ж такое? – зарычал медведь. – Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!
А ива все хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился – и как долбанет медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.
Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.
– Братцы! – заорал медведь, пуская пузыри. – Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю... до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!
– Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь! – прохрипел окунь, не разжимая зубов. – Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!
Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый драчливый ерш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу.
“Фу, думает, дешево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку”.
Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.
Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят – рассчитывают, когда он подплывет под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи – плотины, подводные ходы и шалаши.
Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобер крикнул:
– А ну, нажимай!
Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загрохотала – обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.
“Ну, теперь крышка!” – подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл.
Вылез на свой берег и – где там отряхиваться, некогда! – пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: “Дуррак!”, а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ерш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да недоплюнул – где там доплюнуть при таком отчаянном беге!
Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.
Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его – все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах.
А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.
Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.
Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.
– Спасибо вам! – сказал Петя.
Но никто ему не ответил.
Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.
Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:
– Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!
Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.
Внеклассное чтение.
С. Сейфуллин. Домбра
Люди в тесный кружок
В юрте сошлись большой,
В беседах речь повели
0 жизни своей былой.
А я бренчал на домбре,
Проходя по ее ладам,
И песню одну за другой
Играл пришедшим гостям.
То радовалась домбра,
То испускала стон,
То был с рыданием схож
Струн ее громких звон.
То было весело ей,
И звонко смеялась она,
То гневалась, то опять
Печалью была полна.
То в ней бушевала страсть,
То никла она от мук,
То вспыхивала, а то,
Томясь, обрывала звук.
А вместе с этой домброй
Рыдала душа моя,
Терзала мне сердце грусть,
И горестно плакал я.
А танец кружился в ней
Все тише, пока не смолк,
И таял он, словно мед,
И нежным он был, как шелк.
А слушатели мои
То радовались со мной,
То становились грустны,
Следя за моей игрой.
Домбра моя! Крик души!
Ты - лучшее, чем я жил,
Ты - грусть, ты - радость моя, -
Источник надежд и сил.
В тебе вся моя душа,
Порыв молодых страстей,
Ты - исповедь нежных чувств,
Ты - буря в груди моей!
Внеклассное чтение.
С. Муканов. Юный табунщик.
Кош - походное жильё, крошечная юрта особого рода, палатка, шалаш, словом, нечто такое, где можно переспать ночь, а днём скрыться от дождя и зноя. Кош должен быть лёгок и так прост, чтобы его можно было свернуть, переезжая на другое место. Внизу остов - деревянное кольцо с отверстиями для кольев, так называемые шариин, по бокам колья, покрытые кошмой, вверху дымоход, прикрытый, пока печь не топится, тоже круглым куском кошмы - тундуком, вот и всё. Влезть в такую палатку можно только ползком, в ней находится очаг, там варят пищу, обедают. Ставят кош посередине пастбища и, когда стада перекочёвывают в другое место, снимают и переносят дальше.
Наш кош стоит в снежной степи, недалеко от озера Дос. Здесь пустое ровное место, по нему гуляют вихри и наметают сугробы. Сугробы высокие, как стены. Лошади бродят по снегу, разгребают его копытами и ищут под ним прошлогоднюю траву.
Что за выносливое животное лошадь! Иногда, когда особенно морозно и ветрено, морда лошади кажется совершенно сизой, а шерсть переливается, как бобровый мех. Ходит эта лошадь, выискивая корм, по сугробам, проваливается в них чуть не по брюхо, и вдруг заносит правое или левое копыто и начинает разгребать и выбрасывать снег. Лошади работают упорно, каждая на своём участке. И вот через полчаса сугробов уже в помине нет, а расстилается ровная оледеневшая земля с такой же оледеневшей травой. Когда лошадь её щиплет и пережёвывает, лёд хрустит у неё на зубах. Я присматриваюсь к лошадям и узнаю их повадки.
Лошади - очень нежные матери. Расчистив площадку, они сначала пускают на неё своих жеребят и только после этого пасутся сами. Когда вся трава на месте выпаса кончается, приходится перегонять табун на новое место. Это далеко не простое и совсем не лёгкое дело, ведь весь путь покрыт сугробами. А что под ними - гладкая равнина или впадина - никогда не узнаешь, пока не ухнешь в снег по пояс, а то и по горло. Лошади, встречая такую невидимую и непреодолимую преграду, останавливаются, топчутся на месте и ни за что не идут дальше. Так и стоит весь табун перед каким- нибудь оврагом, ржёт, жмётся и не двигается. Очень многое зависит и от того, какой вожак идёт впереди. Вожак идёт первым по снежной целине, пробивает снег грудью, а вслед за ним по глубокой траншее следует и весь табун.
Так, переходя с места на место, мы и коротали зиму. Макан не солгал, действительно еды нам хватало за глаза. Нет нужды, что у нас была только жирная конина да сухой сыр. По мнению Макана, здоровее конского мяса нет ничего на свете.
- А то как же? - рассуждал Макан. - Вот я целыми днями на холоде, а не мёрзну. А почему? Только потому, что конину ем. Привези в эту степь человека, который питается говядиной или овечьим курдюком, он сразу в сосульку превратится. Что, не веришь? Вот возьми котёл с супом и вынеси его на самый сильный мороз. Какое бы мясо в нём ни варилось, жир сразу станет коркой, а конский жир только густеет - и всё. Или вот - переешь баранины, говядины или верблюжатины, что с тобой будет? Заболеешь, занеможешь, начнёшь стонать да охать да ещё, пожалуй, от заворота кишок умрёшь. А конина сразу же переваривается, и никакой тяжести в животе от неё не бывает. Нет мяса легче, чем конское! Теперь возьми конское молоко - кумыс. Это же первое средство от чахотки. Тело у лошади стойкое против всякой заразы; ходит она летом по полю, какая только гадость на неё не садится - и комары, и оводы, и мошка, лошадь вся в ранах... Другая скотина сейчас же подохла бы, а лошади ничего. Понял?
- Теперь я тебе другое порасскажу, - продолжал Макан. - Несколько лет тому назад поехал я навестить своего дядю. Там тоже степь, а в ней табуны пасутся. В этих степях змей тьма-тьмущая, но пастухи их не боятся. И знаешь почему? Ни одна змея не ужалит ни лошадь, ни человека, если от него конским потом пахнет. Ляжешь спать, разбросай вокруг себя конскую сбрую - змея близко не подползёт. Если собрать пот с одного коня, его хватит переморить целое логово змей - все сдохнут. И знаешь, почему так? Лошадь - самое благородное животное на свете: мутную воду она не пьёт, к стоячей не подойдёт, даже в реке, если ей дать волю, доплывёт до середины и только там напьётся. А теперь посмотри, как лошадь ест: выбирает траву, какая лучше, выше, сочнее. А что может быть здоровее травы!
Макан очень любил лошадей. Он, кажется, не спал бы, не отдыхал оы, всё время объезжал бы табуны и смотрел, всё ли в порядке.
Если волкам всё-таки удавалось выкрасть из табуна какого-нибудь захудалого слабосильного жеребёнка, он переживал эту потерю, как своё личное горе.
Одевался он всегда очень легко, постоянно носил круглую шапочку, такую маленькую, что она не закрывала даже макушки, и только в самые трескучие морозы неохотно натягивал огромный казахский малахай - большую тёплую шапку-ушанку. В солнечные же дни он и шубы не надевал - а зима в наших краях стоит лютая. Даже в самые тёплые зи градусник показывает 15-20 градусов ниже нуля, а Макану хоть бы хны - ездит нараспашку. Обмораживаться в лютые морозы ему иногда приходилось, но никогда не страдал он от этого. Через несколько дней обмороженные ухо или ладонь начинали шелушиться, и показывалась красная, как медь, кожа. И этим всё кончалось. И чем сильнее свирепствовали морозы, тем больше загорало и смуглело, как под жарким солнцем, его постоянно открытое лицо. Стоило посмотреть на то, как по утрам, в любую погоду, он выходил из шалаша, снимал рубаху и, крякая от наслажденья, растирался снегом до пояса. Ел он только два раза в сутки - утром и в полдень. Зато отбирал самые жирные куски и запивал их жирнейшим супом; пять-шесть горстей мяса, две-три чашки супа - и он сыт на целый день.
Зимой лошади не разбредаются по полю, а медленно переходят от участка к участку, добывая, как я уже говорил, прошлогоднюю траву. Мы в это время сидим с Маканом в нашем коше и поём песни. Я пишу «поём», потому что не только я ему пел, но и он мне. Поёт он единственную известную ему поэму «Кор-оглы». Сюжет поэмы таков: в могиле у мёртвой матери рождается младенец. Он растёт не по дням, а по часам и каждую ночь через вырытый лаз выходит из могилы, а ночью опять возвращается к матери и сосёт её грудь. Так проходит сорок дней. За это время младенец становится богатырём. И вот когда он на сороковую ночь возвращается к матери, то видит: на могиле лежит дракон и закрывает лаз, по которому он спускался в могилу. Происходит битва, дракон побеждает, батыр принуждён отступить. Он уходит с родной могилы, встаёт на колени и, плача, обращается к умершей, прося дать ему в последний раз отведать материнского молока. Этот плач сироты, пожалуй, - одна из самых сильных лирических песен казахского фольклора. Если её исполняет хороший певец, взрослые плачут навзрыд, слушая жалобные, полные безнадёжной тоски мольбы богатыря, которому не найти приюта даже в материнской могиле.
А кроме того, Макан знал много сказок, легенд и достоверных историй, которые рассказывал мне в длинные зимние вечера.
Вот одна из них, удивительная, но совершенно достоверная история о чудесном жеребце по кличке Ак-Жамбас. У этой клички было своё происхождение. Однажды летом из табуна, оборвав верёвку, убежал в степь взбесившийся верблюд (бура). Это смирнейшее, неприхотливое, терпеливое животное, с которым легко справляется каждый ребёнок, в пору бешенства становится хитрым, свирепым, а
главное, злопамятным. Он способен без устали, упорно гнать человека до тех пор, пока тот не упадёт в изнеможении. И тогда Бура загрызёт его.
Итак, сбежал бешеный верблюд, и его надо было поймать во что бы то ни стало. По слухам, он находился в соседнем табуне другого бая, но кто осмелится вступить в единоборство с этим шайтаном и набросить ему на шею петлю? Выбор пал на Бакея, пастуха. «Ну что ж! Я, пожалуй, съезжу за ним, - говорит Бакей, - но мне надо такого коня, чтобы я не только мог догнать этого дьявола, но, в случае чего, и ускакать от него». Выбрали гнедого жеребца. Бакей несколько дней объезжал его, потом подтянул подпругу, выбрал длинную берёзовую дубину, специально высушенную для того, чтобы её легче было держать в руках, и отправился за беглецом. Но бура, ещё издали увидев пастуха, вскочил на ноги и бросился на него. Бакей, подпустив верблюда, огрел его по шее дубиной и помчался наутёк. Обозлённый бура побежал за ним, но тут Бакей, улучив момент, снова треснул его по боку и опять отскочил в сторону. Он мог бы его свалить одним ударом по голове, но хозяин строго-настрого приказал доставить беглеца живьём. Однако справиться один на один с взбешённым верблюдом невозможно. Оставалось спрятаться и переждать, потому что бегством от буры не спасёшься - он неутомим в преследовании. За десять вёрст возле небольшой рощицы находилось пустующее зимовье. Вот Бакей и поскакал туда. Чтобы выиграть время, он завлёк верблюда в болото, а сам поскакал напрямик. Пока верблюд барахтался в топи, Бакей влетел во двор пустого дома (в ауле все откочевали на пастбища), накрепко запер ворота, ввёл коня в дом и заложил вход брёвнами. Бура высадил грудью ворота, влетел во двор и залёг около самых дверей дома. Так он пролежал, не двигаясь, двое суток. Бакей два дня не пил и не ел, сено для лошади доставал через окно. На третьи сутки бура отошёл от двери, вышел из ворот и стал пастись недалеко от дома, обирая колючки какого-то бурьяна. Воспользовавшись этим, Бакей незаметно вывел жеребца и выскочил через задние ворота. Только так он и спасся.
Верблюда потом поймали, вернули в табун. Но история на этом не кончилась. Через год верблюд, случайно встретив жеребца (а ведь в табуне не одна сотня лошадей), бросился на него. Между конём и верблюдом произошло настоящее единоборство: жеребец вырвал кусок мяса с передней ноги верблюда, а верблюд нанёс ему глубокую рану в бедро. И когда рана зажила, шерсть на ней выросла седая, белая. С тех пор жеребца и зовут Ак-Жамбас.
И дальше Макан рассказал, какой удивительный этот жеребец. К его косяку не смеет приблизиться ни волк, ни конокрад. Он с одинаковой яростью бросается как на голодного зверя, так и на незнакомого человека. Даже если незнакомец подберётся на лошади, то и тогда он сумеет сорвать его зубами с седла или искусать коня. На чужих жеребцов Ак- Жамбас не нападает, но и они не смеют приставать к нему.
- А пристанут раз, - прибавляет Макан, - так потом век не забудут.
В первый же день моего появления на пастбище Макан показал мне
Ак-Жамбаса издали. Это был действительно не конь, а чудо: статный, высокий, на голову выше всего табуна, с гривой по колено, с длинным густым хвостом.
- Ты смотри, близко к нему не подходи, - предупредил Макан. - Он тебя ещё не знает, пусть попривыкнет.
Ак-Жамбас привык ко мне скоро. Сначала ещё косился недружелюбным взглядом, храпел, а потом вовсе перестал обращать внимание.
Дни шли за днями. Я варил обед для Макана и помогал ему пасти лошадей.
Одна буря мне особенно памятна. Макан вернулся с объезда и сообщил, что лошади храпят, собираются скопом, подбирают животы. Это не к добру. Надо пообедать пораньше, одеться потеплее и отогнать лошадей на новое место, где корма побольше, а то как бы во время метели ноги не поломали в ямах.
Так мы и сделали: поели, оделись потеплее, сели на коней (у Макана для таких случаев постоянно наготове два осёдланных коня) и поскакали собирать табун.
Макан словно в воду глядел: ещё и ночь не успела спуститься, как закрутила метель. Я сразу же ослеп и оглох. Было темно. Крутящиеся зихри скрывали даже голову моей лошади. Было трудно дышать. Макана я потерял, метель крутила меня по полю. Я не знал, где нахожусь и где табун, помнил только одно: надо крепче держаться за гриву, иначе выбросит из седла. На счастье, жеребец мне попался хороший, и я, помня наставления Макана, кинул поводья, дав ему полную свободу.
О, какая же это была долгая, проклятая нескончаемая ночь! Я всё кружил по полю, куда-то ехал, не видя и не слыша ничего. И мне уже
не верилось, что может наступить этому конец. Но конец бывает всему. Взошло солнце, ветер утих, и я увидел, что нахожусь в центре табуна, а мой жеребец спокойно пасётся посередине уже расчищенной от снега прогалины.
К полудню буран прекратился вовсе, и я начал сгонять разбредшихся по полю лошадей. И тут мне сразу бросилось в глаза, что недостает многих коней. Стал искать Макана - его тоже не было. Куда же он мог деться? До вечера я ничего не мог понять и потерянно кружил по степи. Только когда уже стемнело, я вдруг услышал топот и увидел, что на меня несётся табун: Макан гнал отбившийся косяк.
- А косяк Ак-Жамбаса здесь? - крикнул он мне с седла.
Я ответил, что нет. Макан беспомощно взмахнул руками и побледнел.
- Ну, пришла Божья кара, - сказал он. - Как же так вышло? Ну ладно, оставайся тут, я пойду проверять табуны.
Скрип копыт по снегу, ржанье - то заливистое, то короткое, как хозяйский окрик, то тонкое, как крик ребёнка, - стояло над степью. Это матки, потерявшие жеребят, и вожаки, не сумевшие сохранить косяки, сзывали отставших. Косяк распадался и перестраивался. Макан объехал весь табун и вернулся обратно.
- Ну, и впрямь Божья кара! - сказал он. - Около сорока лошадей нет, целиком весь косяк Ак-Жамбаса пропал, да из других косяков лошадей одиннадцать. Значит, с Ак-Жамбасом случилась беда.
- Какая беда? - спросил я.
- Волки напали, вот какая беда, - сердито огрызнулся Макан.
- А может, его косяк в топь попал? - спросил я.
За день до этого мы с Маканом объезжали табун и на самом краю поля заметили следы двух волков. Мы поехали по ним, думая обнаружить волчье лежбище, и вдруг наткнулись на топкое солоноватое озеро.
- Несёшь ты чёрт знает что! - окончательно рассердился Макан. - Ак-Жамбас умнее нас с тобой. Он никогда не терял ни одной кобылицы. У него всегда весь косяк вместе. Нет! Нет! Не иначе как только волки.
Он опустил голову и задумался.
- Так куда же он мог всё-таки уйти? Те волки шли к озеру Атантай. Там густой камыш, как раз место для волчьего лежбища. Есть ещё место, где они живут, - это озеро Шокшалы, но туда волки лошадей не погонят: оно с ветреной стороны. Значит, надо искать косяк только около Атан- тая, туда они его и погнали.
- А зачем погнали? - опять спросил я, ничего не понимая толком. Макан говорил о волках, как о разумных существах, почти как о табунщиках.
- Ах, Господи! Ты что, совсем не соображаешь?! - воскликнул Макан с настоящей досадой. - Да потому, что волки нападают только на отбившихся от табуна лошадей, на целый косяк никогда не нападут. Вот они п ловчат: окружат косяк и гонят его в топь или в овраг, а там уж разделываются с каждой лошадью поодиночке. - Он задумался. - Да, да! Не иначе как на Атантай. Ты оставайся здесь, а я поеду. Смотри, не давай разбредаться лошадям. Сейчас они проголодались, будут целую ночь пастись смирно, не поднимая головы. Оставайся, не бойся: если человек при табуне, волки никогда не нападут.
И он ускакал.
По правде сказать, очень трудно пришлось мне в эту ночь. Ведь я больше суток проторчал в седле, больше суток не ел и не спал и поэтому чуть не падал от усталости, безостановочно блуждая по полю.
Метели нет, а я всё кружу, кружу и кружу. Так прошло полчаса, потом час. Курай же оставался кураем, сугробы сугробами, и я успокоился, и веки мои начали тяжелеть. Светит полная луна, ветра нет и в помине, воздух тих, прозрачен, остро пахнет свежестью, и такое безмолвие, что если сорвётся с курая пласт снега, то и это слышно. Лошади бродят или спят стоя, задремала и моя кобыла. Я закрыл глаза и...
- А, попался! - раздалось около моего уха, и мгновенно кто-то сильный и свирепый рывком выбил меня из седла, бросил поперёк лошади п, закутав с головой армяком, помчал по полю...
- Конокрады, - подумал я и затих.
- Мальчик! - вдруг раздался надо мной тот же страшный голос. - Если я тебя отпущу, отдашь мне половину табуна?
Голос был неестественно грубым, я сразу всё понял и закричал:
- Дядя Макан, пусти, а то я задохнусь!
Макан захохотал и скинул с меня армяк.
- Ну, напугался? Наверно, чуть жив от страха?
- Нашёлся Ак-Жамбас? - спросил я.
- Нашёлся! Нашёлся! - весело ответил Макан. - Ладно, идём в кош, а то проголодались, там уж я всё тебе расскажу.
Наевшись досыта, Макан начал рассказывать. Говорил он долго, нарочно останавливался на самых интересных местах (он любил иногда похвастаться), а потом вдруг объявил перерыв и закончил рассказ уже утром, после того как выспался и обтёрся до пояса снегом. Здесь я сжато передаю всё, что услышал от Макана.
- Ну, как ты знаешь, поскакал я к озеру Атантай и вёрст через пять вдруг наткнулся на следы косяка. Весь снег в этом месте был так сбит копытами и перемешан, что я сразу понял: вот здесь лошадей вспугнули волки, и они шарахнулись в сторону и побежали. Произошло это всё ещё до
бурана или во время него. Следы были заметены снегом. Сколько было волков, я сосчитать не мог, но никак не меньше десяти. Слез я с лошади, стал рассматривать следы и понял, что произошло: волки окружили косяк со всех сторон и гнали его по сугробам, лошади сбились, сгрудились и скакали, прижавшись друг к другу, - так у них всегда бывает, когда косяку грозит опасность. По этим же следам было видно и другое: и сзади и спереди, и с боков косяка скакала одна и та же лошадь и поочерёдно бросалась на волков. Видно было, что как только волки прорывались к стаду, они всегда натыкались на копыта и зубы вожака. «Эх, моя лошадка, - подумал я, - одна-одинёшенька, отбиваешься ты изо всех сил, а врагов-то много; одного волка убьёшь, девять останется, пятерых убьёшь, и то пять останется - не выдержишь, обессиленная, свалишься - и тут-то тебя растерзают в клочья». И так мне горько от этих мыслей стало. Скачу дальше и вдруг слышу: заржала где-то лошадь, но только где-то очень, очень далеко. Я ушам своим не поверил, остановил коня, сижу в седле, прислушиваюсь: точно, это ржёт Ак-Жамбас. «О Аллах, - воскликнул я, - благородный конь, слава Всевышнему, ты ещё жив!» И пока я так стоял, прислушиваясь, жеребец подо мной отдохнул и поскакал по глубокому снегу - уверенно, как по дороге.
И тут я увидел весь косяк, а в стороне от него, проваливаясь в снег по брюхо, метнулось при виде меня несколько матёрых волков. А Ак-Жам- бас поднял морду и заржал. - Тут Макан остановился и всхлипнул.
- Ну что ты, - сказал я, - ведь всё кончилось благополучно.
- Ну как же мне не плакать, - ответил Макан, вытирая слёзы, - стоял мой жеребец весь в поту, в пене, от него пар валил клубами. Запоздай я на полчаса, он рухнул бы в снег, и волки разорвали бы его на части - он уж совсем выбился из сил. Я быстро подбежал к нему, вытер ему глаза, накрыл армяком, снял с жеребца уздечку и взнуздал. Потом я осмотрелся и догадался, что тут произошло: если волк был спереди, Ак-Жамбас бил его передними ногами, если заходил сзади - просто лягал.
- Но почему же волки дальше лошадей не погнали? - спросил я.
- А вот почему, - сквозь слёзы улыбнулся Макан. - Оказывается, косяк стоял в десяти шагах от оврага. Если бы Ак-Жамбас не остановил косяк, все лошади полетели бы вниз, и волки живо с ними расправились. Вот он, мой красавец, и остановился около самой пропасти. И выходит - вперёд ни шагу уже нельзя.
- А обратно? - спросил я.
А обратно ж волки! - воскликнул Макан. - Они своё на уме держат - загнать коней в овраг, пусть они ноги поломают, тогда им и конец. Вот какой их расчёт был. А жеребец оказался умнее: дошёл до края и остановился. Видишь, что получается?




 Мектепке дейінгі балалар ұйымына жолдама қалай алуға болады
Мектепке дейінгі балалар ұйымына жолдама қалай алуға болады
 Мектепке тіркеу үшін құжаттарды қабылдау
Мектепке тіркеу үшін құжаттарды қабылдау

 2026 жылғы 27 қаңтарда ұзаққа...
2026 жылғы 27 қаңтарда ұзаққа...